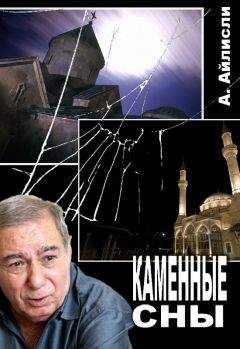С тех пор как Халык женился, он ни разу не написал брату, и это его очень мучило. Вот сегодня — открыл глаза и сразу вспомнилось: за три недели не написал ни одного письма. Впрочем, Халык проснулся с уверенностью, что сегодня он наконец осилит это письмо. Может быть, такое ощущение возникло потому, что в комнату заглядывало молодое утреннее солнце, а может, потому, что Халык выспался и видел хороший сон. Не исключено, что существовала и еще какая-нибудь причина.
Так или иначе, Халык точно знал, что письмо к брату будет отправлено. Потом ему пришло в голову, что, может быть, он зря так волнуется; совсем не обязательно, что брат объяснит его молчание семейными неприятностями, наоборот, человек женился — новые заботы, новые обязанности, где уж тут письма писать?..
Сейчас Халык был почти уверен, что брат именно так и понимает отсутствие его писем. Да ведь и прошло-то всего ничего — каких-нибудь три недели!..
Халык с аппетитом позавтракал, напился чаю, сунул под мышку завтрак, завернутый в газету, скинул в передней шлепанцы, обулся и, бросив возившейся в кухне жене: «Я пошел!» — стал спускаться по лестнице.
Халык был уже на следующей площадке, когда Салтанат окликнула его: «Братец! Братец!»
Он поднялся на несколько ступенек, жена на несколько ступенек спустилась.
— Вот, — сказала она, протягивая Халыку листок, вырванный из школьной тетрадки, — отошли, пожалуйста, письмо.
Халык кивнул, сунул листок в карман и тотчас же ощутил какое-то смутное недовольство — не потому, конечно, что придется идти на почту, — не первое письмо отправляет, — тут что-то другое…
Халык спустился еще на один этаж и вдруг понял, что все дело в этом «братец», не любит он, когда жена его так называет.
У выхода Халык остановился: ему пришло в голову, что Салтанат опять могла захлопнуть дверь. Убедившись, что жена не осталась на лестнице, он вышел из подъезда, миновал ворота и тут отчетливо ощутил, что с письмом к брату все опять стало трудно, что это ненаписанное письмо камнем висит у него на шее.
Дело в том, что у Халыка был один-единственный брат. Он служил в армии, и Халык часто писал ему, сообщая о себе все подробности. И когда на четвертом курсе ему неожиданно предложили должность литсотрудника, Халык прежде всего побежал на почту — его распирало от радости, и он должен был немедленно излить эту радость на бумаге. Одну страницу письма Халык посвятил этому событию, другую заполнил описанием замечательного человека, который устроил его в редакцию; он даже пытался обрисовать брату его внешность.
Потом Халык побывал дома у этого удивительного человека. Опьяненный теплым приемом и всем, что видел в доме своего начальника, Халык в немом восторге долго слонялся по улицам и в конце концов опять-таки оказался на почте. Он был в таком состоянии, что не мог запомнить, что именно написал в том письме, но точно знал: письмо получилось хорошее — брат порадуется за него.
Потом, опять же с помощью своего начальника Курбанлы, Халык получил однокомнатную квартиру в новом районе. Когда он, единым духом взлетев по той самой лестнице, по которой спускался сегодня, идя на работу, вошел в свою квартиру, то понял, что должен сейчас же, немедленно написать брату. И действительно, через час Халык уже сидел на почте и писал; впрочем, он только водил рукой — слова сами лились из-под пера: кухня, ванная, облицованная плиткой, лоджия с видом на море…
Халык ничего не скрывал от брата, кроме, может быть, тех незначительных подробностей своей жизни, о которых люди вообще не говорят и не пишут. О том, например, что до женитьбы чуть не каждый день ходил в кино: он и жил от фильма до фильма. Лучше всего об этом знала его кровать в общежитии, скрипучая железная койка с провисшей сеткой; ей было досконально известно, что хотя Халык лежит сейчас на кровати в общежитии, он далеко-далеко, совсем в другом мире. И видит он не эту кровать, а роскошное благоухающее ложе; сам того не замечая, Халык каждый раз, возвращаясь из кино, выбирает для этого ложа самых красивых из встретившихся ему девушек. И красотки эти сейчас с ним, рядом. На них коротенькие, выше колен, юбочки, лежат они, как лежат красавицы из заграничных фильмов: руки живописно раскинуты, отчего грудь обрисовывается особенно отчетливо… Некоторые даже курят, а Халык ничего не имеет против…
Когда Халык переехал из общежития в собственную квартиру, он прежде всего купил кровать — красивую деревянную кровать за пятьдесят рублей, тюфяк — за десять рублей и одеяло — за четырнадцать. Но на этой пятидесятирублевой кровати уже не было живописно раскинувшихся красоток, с ним теперь постоянно была только одна девушка. Была, разумеется, в переносном смысле, потому что находилась она далеко, очень далеко…
Как-то раз после утомительного обсуждения плана Халык поймал на себе взгляд начальника, снова ощутив его отеческую заботу. Начальник оглядел брюки Халыка, ботинки и потом сказал со свойственной ему значительностью:
— Знаешь что, парень, пора бы уж тебе две подушки заводить!
Через несколько дней Халык столкнулся с начальником в коридоре.
— Ну что, все болтаешься бесприютный? — бросил Курбанлы, стремительно, как экспресс, проносясь к себе в кабинет. Через несколько минут он вызвал Халыка и завел с ним откровенный разговор.
— Вот что, парень, — сказал Халыку начальник. — Натаскался по шлюхам хватит! Пора остепениться. Одно дело — в такси ездить, другое — в собственной машине.
Халык промолчал — он никогда не пользовался тем «такси», которое имел в виду редактор. А главное — когда Курбанлы заговорил о такси, Халыку сразу представилась машина Курбанлы, и, словно боясь, что начальник тоже увидит эту машину и то, что видел в ней сейчас Халык, он поспешно вышел из кабинета.
А потом наступил день, когда Курбанлы вызвал Халыка в кабинет и без всяких околичностей велел ему написать заявление об отпуске.
— Поезжай в деревню, — сказал он, — выбери приличную девушку и вези сюда. Пора. А то прицепится какая-нибудь городская вертихвостка — ни за что пропадешь!
Так Халык оказался в деревне. Жениться старинным порядком он, разумеется, не желал, поэтому ему организовали встречу с намеченной девушкой — это была дань современности.
Встретились они у родника, разумеется, девушка пришла к роднику совсем не для того, чтобы мыть посуду, хотя посуды она притащила целое ведро, и он оказался у воды вовсе не потому, что хотел пить, хотя ему и пришлось проглотить несколько пригоршней.
Когда Халык, уходя, бросил взгляд на девушку, он заметил, что та стоит вся пунцовая, на лбу бисеринки пота, а в глазах — неудержимая, отчаянная радость.
«Ладно, — сказал он себе, — женюсь!»
Сказал, присел на камни и стал думать… Потом он послал сватов к девушке. Потом была небольшая вечеринка. Потом поезд… и Салтанат. Салтанат, Салтанат… Ее восторженный взгляд, ее руки, ее колени… И ее голос: «Братец, это уже Баку?»
Она начала спрашивать об этом от самого Биледжара и повторяла свой вопрос перед каждой крупной станцией. И все время «братец, братец».
Потом они садились в такси на вокзальной площади, и Халык вспомнил слова Курбанлы: «Одно дело — в такси ездить, другое — в собственной машине».
Брату нужно было написать на следующий же день! Не пришлось бы недели таскать на шее этот пудовый камень…
С этим камнем Халык влез в автобус, дошел до редакции, втащил его по крутой лестнице…
Халык со студенческих лет привык первым, раньше всех приходить на работу: занимался здесь… Поскольку он и теперь оставался верным своей привычке, вахтер, выполняя давнишнее распоряжение начальника, продолжал давать ему ключ. Сегодня Халык тоже оказался первым.
Он отпер комнату, вошел, сел за стол и сунул руку за папиросами курить в редакции тоже было его давнишней привычкой.
Потом он достал из стола листок бумаги, положил перед собой и, взяв правой рукой авторучку, другой стал сосредоточенно тереть лоб. Когда лоб стал совсем красным, Халык встал и подошел к окну: «Не могу, — прошептал он, — не могу!»
Окно выходило во двор. Высокие кирпичные стены с трех сторон окружали двор, образовывая глубокий колодец.
На грязной серой стене были намалеваны две черные фигуры. Когда Халык первый раз увидел их из окна, он решил во что бы то ни стало уничтожить эту мерзость — при всей неумелости рисовавшего ясно было, что это мужчина и женщина, и страшно было подумать, что такой человек, как Курбанлы, вынужден каждый день видеть это непотребство. Рисунок на стене долгое время смущал Халыка. Лишь после того как Курбанлы заговорил о «такси», Халык перестал думать о рисунке, теперь он его просто не замечал.
Халык стоял у окна, задумчиво глядя на черные фигуры. Хлопнула дверь, пришел Наджимли — заведующий отделом поэзии, Халык узнал его по шагам.