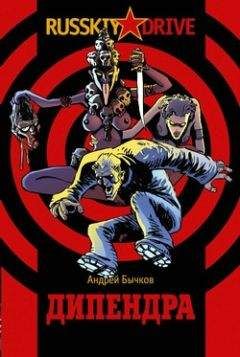Андрей Бычков
Твое лекарство
– Есть некое существо в тебе, которое должно погибнуть, – сказал Джайвз. – Ибо токи смерти необходимы, как и токи жизни.
Он положил трубку.
Тогда, при знакомстве у ларька, Джайвз сказал, что он тоже русский, как и я. Почему-то я подумал, что, быть может, его фамилия объяснялась той непонятной тягой ко всему иностранному, присущей нашему народу, посредством которой он подчас и организует свою самобытность, оставаясь русским и на востоке, и на севере, и на западе, и на юге.
Признаться, меня давно мучили все эти тайные вопросы жизни души, что для делового человека, наверное, покажется достаточно смешно и нелепо. Запутываясь, однако, все более и более и в своей судьбе, я стал раздумывать об этом все чаще. Время заставило меня рисковать. Оставив скромную, непритязательную профессию инженера, связанную больше со службой в исконном российском смысле этого слова, чем с делом в хоть какое бы то ни было благо, я двинулся в коммерцию, пытаясь обрести себя в роли посредника, брокера, в биржевых операциях по продаже самосвалов, компьютеров, ваты, видеосистем и всякой другой всячины, которая то всплывает из подполья, то приходит из какого-нибудь там Гамбурга в пломбированном вагоне, а то с невинной улыбкой достается в целости и сохранности с государственного склада. Но за несколько лет мне удалось заключить всего две крупные сделки, несмотря на то, что я почти непрерывно кому-то и куда-то звонил, с кем-то договаривался, судорожно подбирая начала к концам, сводя заказчиков с продавцами и иногда выплачивая неустойки, если кто-то надувал и не являлся на сделку. Я пытался составить эти нехитрые комбинации с небольшой, хотя бы в десятую процента, выгодой, чтобы отремонтировать старую машину, поправить дачу, собрать дочке на институт да и купить, наконец, хоть те десять – двадцать дисков групп «Пинк Флойд», «Лэд Зеппелин» и «Битлз», что и составляет спасительную иллюзию жизни для такого, как я, семидесятника. Но жестокое время распорядилось иначе. Выиграв деньги на бирже, я проиграл их, вложив в акции небольшого завода по производству подсолнечного масла. Судьбе было угодно, чтобы дело это лопнуло, директор попал в Бутырку, где его бьют и поныне в переполненной вдвое камере, а я развелся с женой, которая предпочла более удачливого коммерсанта. Тогда-то, быть может, оставшись один на один с алюминиевой миской и ложкой, я и стал задумываться о своей нерадивой жизни, теперь уже в воспоминаниях, пытаясь придать ей хоть какой-то смысл.
С Джайвзом я познакомился у пивного ларька. Смешная табличка «Ждите отстоя пены», бугристые красноватые руки в окошке, черный шланг, из которого наливал пивной невидимый киоскер, и, наконец, кашлянувший как-то застенчиво за моей спиной маленький, изящный, с совсем не идущей к его миловидному лицу черной бородкой юноша в зелено-желтом, осенне-весеннем каком-то шарфе, с эмалированным облупленным бидоном, позвякивающим, словно золотое кольцо в медном тазе. Меня заинтересовала тогда странная фраза, которую он произнес неслышно почти, скорее всего, для себя. Реагируя на яростный спор о русском, разгоревшийся в очереди, он сказал, что русскую душу вылечит тот, кто знаком и с Фрейдом, и с Патанджали. Я попытался разговориться с ним, но он как-то смутился, взглянув на меня, и только представился, сказав, что сильно простужен и не может разговаривать. Впрочем, он оставил мне свою визитную карточку с телефоном и попросил позвонить, если у меня будет еще охота поболтать на эту тему.
Как это ни странно, но, обнаружив через несколько дней его визитку в своей записной книжке, я все же позвонил, и с тех пор мы часто перезванивались. Я откровенно рассказывал ему о своей неудачливой жизни, а он обычно молчал и усмехался, и лишь потом начинал свои странные увещевания. Иногда он звонил мне в три часа ночи, и тогда мне начинало казаться, что, быть может, он и есть олицетворение того страшного сна, которому он все пытался меня обучить, живительному сну смерти, как он выражался. Оптимист по своей натуре, я часто с ним спорил, сопротивляясь его словам. Он все же оказался «фрейдистом», несмотря на свою фразу у ларька. А мне по душе была другая восточная философия, которой я за те несколько месяцев, что прошли после моего финансового и семейного краха, настраивал себе душу, размышляя о счастье, силе орла, солнце, полярной звезде и ошибках интеллекта. Я ставил восковую свечу в алюминиевую миску и долго смотрел на нее, словно вдыхая в себя целительный пламень и пытаясь остаться в той невидимой точке в своем теле, что древние индусы изображают в виде желтого солнца с вписанным знаком голубой звезды и с короной из двенадцати алых лепестков по кругу.
О самоубийстве начал, конечно же, Джайвз, и долгое время я не относился серьезно к его словам, предпочитал лишь разговаривать об этом по телефону абстрактно, в большей степени с позиций сопротивляющейся критики, в меньшей – с той долей заинтересованности в страшных снах, разговоры о которых послужили фундаментом для наших коммуникаций, ибо, откровенно говоря, в то время я никаких других знакомств и не поддерживал, предпочитая остаться одному, даже без своих старых, озабоченных ныне темпами собственного преуспеяния друзей, втянутых в оптимизм совсем другого толка. Скорее всего, я завидовал им в глубине души, не признаваясь себе самому, с тайной надеждой обрести с помощью медитаций и оккультного знания уверенность и тайные магические силы, которые помогли бы мне осуществить некий сверхсценарий, изначально присущий, вероятно, каждому человеческому существу. Да, я не терял надежды на возможность еще когда-нибудь внезапно и сказочно разбогатеть, снова жениться, на этот раз не на кудластой, как куриная попка, домохозяйке, а на красивой, умной и сострадательной девушке, дочери состоятельных и образованных родителей, доброта и чуткость которой наполнили бы для меня жизненную борьбу смыслом. Путешествия и культура еще ждут меня, думал я, музеи Рима (почему-то именно Рима), собор святого Петра, Пантеон, площадь Капитолия с абстрактной розеткой, в центре которой конная статуя Марка Аврелия, того самого, что хоть и сказал, что слава недостоверна, но все же остался в веках, являя собой не только пример философа-властелина, но и пример памятника, которому после смерти своей подражали в камне другие властители мира, быть может, при жизни и не имевшие о самом Марке Аврелии никакого понятия. Когда я пытался заговаривать об этом с Джайвзом, он перебивал меня и громко кричал в трубку, что это все не изжитые еще инфантильные мои иллюзии и что именно они составляют прямую дорогу в ежедневный человеческий ад, стоит лишь мне переступить порог собственного дома, но я почему-то продолжал верить, несмотря на то, что испытал на себе весь ужас бумеранга жизни, который, собрав последние силы, снова бросаешь вперед острым концом в надежде разбить щит, за которым укрыто нехитрое, в общем-то, счастье, а он возвращается, описав во времени неведомую петлю и бьет тебя сзади тупым, оставляя подыхать, как собаку, непонятно почему упавшую с балкона высокоэтажного дома. «Джайвз, – говорил я. – Но должны же мы хоть во что-то еще верить? Семья, ребенок, путешествия…» – «Не это важно, – перебивал меня Джайвз, и мне казалось, что я вижу, как он теребит черную, мефистофелеву свою бородку. – Надо просто убить себя, – продолжал он, – только это нужно, чтобы остаться живым, ибо это, как предательство Христа Иудой, необходимо». Я подумал, что накануне Джайвз сильно перепил, раз он несет такую околесицу. «Ты не пьян?» – спросил я. «Нет, – мягко ответил он. – Я не брал в рот уже неделю». – «Значит, пора выпить, а то так можно и с ума сойти. Мы с тобой, кстати, так ни разу и не выпивали». – «Да нет, – грустно отвечал Джайвз. – Это все паллиативы, надо просто покончить с собой, но так, чтобы случайно при этом остаться живым». – «Как же можно сделать так? – спросил, усмехаясь, я. – Ведь это вещи взаимоисключающие». – «Да, – сказал Джайвз. – В этом вся трудность, и именно поэтому нам надо попытаться сделать это вместе». – «Что?!» – вскричал я. «Ничего», – спокойно ответил Джайвз и положил трубку. В ту ночь я действительно не мог заснуть. Лишь только мое сознание соскальзывало в область сна, как сразу появлялся маленький Джайвз, он улыбался как-то смущенно, выглядел очень доброжелательно, почти задушевно, как одна старая, со школьной еще скамьи, моя приятельница. Мы гуляли в парке с широкими оврагами, заросшими тонким ольшаником, листья уже облетели, было сыро и как-то безнадежно вокруг, хотя и тепло. Случайный, быть может, последний день поздней осени. Мы вышли на небольшую поляну, где стояла странного вида тележка, колеса которой возвышались над ее дощатыми бортами, и именно это почему-то начинало внушать мне ужас, эти колеса, эти лохматые колкие щели между неструганными досками. «Садись», – дружелюбно кивал Джайвз. «Нет-нет!» – отшатывался я. Подходил еще какой-то желтый человек, вдвоем они цепко брали меня под локти и приподнимали слегка над землей, пытаясь уложить в эту странную тележку, на дне которой уже лежали веревка и заступ. «Не бойся, – говорил мне с улыбкой Джайвз. – Почти все в конце испытывают оргазм. В этом и состоит чудо жизни». Я вскрикивал, пытаясь вырваться из этого чудовищного сна, который накрывал меня, словно целлофановый чехол, я отбрасывал его прочь, и, полураскрытый, он удивленно оседал за край дивана, напоминая мне теперь почему-то разбитое стеклянное облако, как будто мне когда-либо случалось видеть такое. С надеждой взглядывал я в окно, но ночь оставалась все так же безразлично черна и утро все не наступало.