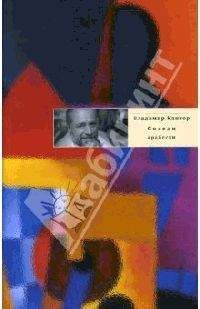Я им сосед.
А. С. Пушкин. Евгений Онегин
Мне поведал эту историю мой сосед по двухместной палате в неврологическом отделении академической больницы в Узком. Именно поведал – с глубокомысленными отступлениями от основного хода сюжета, историософскими обобщениями, хотя и с самоиронией. Мы гуляли по парку, а он рассказывал. Рассказ складывался в маленькую повесть. Я не выдержал и упросил его наговорить историю на магнитофон, сказав, что попробую перевести устный рассказ в печатный текст, прозу, покажу ему, и если он одобрит, то мы опубликуем получившееся произведение под двумя именами.
Так я и сделал. Заменил первое лицо на третье, чтобы ушло щемящее ощущение беззащитности рассказывающего, поменял имя и фамилию главного героя, подыскал эпиграф. Кое-что я вынужден был додумать и дописать, чтобы прояснить себе самому и читателю суть происходящего. Наконец пришло время посоветоваться с моим бывшим соседом, показать ему, что получилось.
Однако по телефону, который он мне оставил, грубый женский голос заявил, что такой здесь не проживает и никогда не проживал. Я позвонил в больницу, где медсестра, которую я хорошо помнил, сказала, что в ее бумагах не значусь ни я, ни мой сосед (по повести – Павел Вениаминович Галахов). В полной растерянности я обратился в отделение милиции, где меня послали прочь, сказав, что людей с указанными мной паспортными данными в Москве более десяти тысяч. Мои адрес и телефон мой бывший собеседник знал, но прошло немало времени, а он не позвонил и не появился. Я решил отнести повесть в журнал, а если мой сосед объявится, то при переиздании добавить и его фамилию.
– Пашенька! Так и хочется сказать – маленький мой! Если б ты знал, как я тебя люблю! Ты для меня – всё! – Она провела ладонью по его волосам, по лбу, по глазам, словно не давая ему смотреть на себя, но тут же отняла руку. И он видел, как нежно она глядит на него, улыбаясь смущенно и радостно. Ночь стояла душная и жаркая. Сквозь темное окно светились два-три желтых квадратика с крестом посередине, один под другим,- окна двенадцатиэтажного блочного дома напротив. По их расположению похоже, что кухни.
“Простонародье гуляет”,- мелькнуло в голове, а следом картинка из телевизионных криминальных сообщений: мол, опять пьянствовали вместе и приятель приятеля зарезал. Потом камера наезжает на окровавленный труп – почему-то с голым торсом и в спортивных штанах. Это видение было как дурной сон в уютной постели, как огненные письмена в роскошных покоях Сарданапала. Даша снова положила ладонь ему на глаза, затем опять сняла.
И видение исчезло.
Она гладила его лицо, грудь, еле касаясь кожи кончиками пальцев.
Сомкнув веки, он отдался ощущению поднимающегося жара в теле.
Даже не открывая глаз, он знал выражение ее лица, влюбленно-заботливое, которое она сама с усмешкой, когда он заметил это, назвала материнским. Но он-то помнил, как матери смотрят на своих детей. Его мать была женщина светская, раздражительная, любившая большие компании, умные разговоры и непрестанно курившая. Даже когда он болел (а болел он в детстве много) и она присаживалась временами у его изголовья, оторвавшись от очередных гостей, взгляд ее становился вдруг каким-то поверхностно-посторонним, а иногда раздраженным, словно сын притворялся больным. Но лекарства давала все же исправно.
Дашина нежность приводила его в непонятное душевное состояние, скорее скверное, потому что, казалось, давала ей права на него.
Он поднял веки, постаравшись сделать это лениво, “как пресыщенный хан” – обладатель гарема. Она застыдилась, смущенно закрыла лицо распущенными волосами:
– Не смотри на меня так!
Горевший над кроватью ночник был укутан ее юбкой, так что тело склонившейся над ним женщины казалось и реальным и нереальным одновременно, словно выплывавшим из ночной полумглы.
– Извини.- Он протянул руку, она подвинулась, и он достал стоявшую у постели открытую бутылку хорошего сухого немецкого вина “Liebfraumilch”. Название Даша переводила так – “Молоко любимой женщины”. Приятель-германист однажды объяснил Павлу, что на самом деле это слово означает “Молоко Богородицы”. Но Дашу он не разубеждал: она считала себя его любимой женщиной, и ей казалось, что вино покупается ради нее. Слегка приподняв голову, он сделал большой глоток. Поставил бутылку и снова откинулся на подушку. Даша прильнула к нему:
– Тебе со мной хорошо? Да? Скажи. Хорошо?
Он лежал на спине, симулируя слабую довольную улыбку, и бормотал, поглаживая ее по спине:
– Конечно, хорошо. О чем ты говоришь?..
Сейчас, вспоминая сегодняшнюю да и другие ночи с Дашей, он морщился от гадкого самоощущения, что он обманщик, что вовсе не нужна ему эта девочка, что произошло это так, а она вроде бы влюбилась, хоть и говорила, что все понимает. Но что – все? Ему стало противно, так противно, что он передернулся всем телом.
Сосед по автобусной скамье даже немножко отодвинулся от него, опасливо скосив глаза.
Павел сдуру уселся у окна с левой стороны, не зная извилистого пути окраинного автобуса, а потому не угадал, что именно здесь будет ярить солнце боЂльшую часть пути. Встать и поменять место не было ни сил, ни возможности. Народу, как и во всех маршрутах, тащившихся от конечной одной ветки метро до другой, было полно.
Толкаться в духоте не хотелось. Его разморило. Он только и мог ждать, когда автобус въедет в тень высоких домов. Даже минутное облегчение от тени рослого дерева казалось благом.
Он скосил глаза на соседа, которого вроде бы солнце не так доставало – все же дальше от окна. Но и тот отдувался, тяжело дышал и вытирал шею носовым платком, при каждом движении толкая
Павла. Это был неприятно располневший мужчина в белой рубашке с синим галстуком. Из-под ремня брюк вываливалось толстое пузо.
Что-то громыхнуло. Павел поднял голову: хлопала и лязгала крышка сломанного верхнего люка. Автобус длинный, с соединительной кишкой между двумя твердыми частями, извивался и скрипел на поворотах. От прокаленной, в выбоинах, давно и плохо заасфальтированной дороги поднималась пыль и залетала внутрь салона. Дышать было трудно. “Поглядишь по сторонам – все просто.
Жизнь проста. И отношение к женщине степное, евразийское. Как там у Блока? Ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых… Хотя какая уж у Даши строптивость!.. Полное покорство. И все равно – мне-то после двух разводов никак нельзя в новую ловушку попадаться”. В размышления влез разговор стоявших крупных, мосластых и потныхтеток лет по сорок:
– И что ты, подруга, воображаешь? Опять ко мне припирается, пьянь несчастная! Стал на колени, прямо перед дверью, и головой об пол тюкается. Прощения, мол, просит. Я говорю: “Ты б хоть с колен встал, людей постыдился. Соседей полно. На одной нашей площадке еще три квартиры. Встань, отряхнись – брюки испортишь”.
А он так нажрался, что только головой кивает. И все икает. Мне аж смешно стало.
– Ну?
– Что ну?
– Ну а ты что?
– А что я? Я с этим заразой жить не собираюсь, с пьяницей. Так ему и сказала: “Поцелуй пробой и ступай домой”.
“Надо бы место уступить”. Но, пока он собирался, женщины вышли.
И понятно, что не ждали от него этой услуги.
Напротив его соседа и наискосок от Павла сидела немного враскоряку толстая женщина лет под пятьдесят. Лицо у нее излучало недовольство жизнью и одновременно удовлетворенность и чувство господства над собственным мужем. Последнее стало понятно после хозяйского жеста, с каким она расстегнула свою сумку, вытащила оттуда газету и сунула соседу Павла:
– На, почитай!
И вправду, что без толку сидеть! Мужик должен быть при деле и у ноги.
Сегодня утром она спешила. Поднялась рано. А потом, стоя рядом с постелью на коленях, целовала его и бормотала:
– Я по тебе очень буду скучать! А ты? Небось до завтрашнего вечера и не вспомнишь?.. Я домой в обед вернусь. Но звонить тебе не буду. Захочешь – сам позвонишь. Позвонишь?
Он, не глядя, ткнул сигарету мимо пепельницы прямо в журнальный столик, стоявший рядом с диваном.
– Конечно.
– Ой ли! Ты ведь меня ни капельки не любишь. Я же знаю. И все равно ты мне помогаешь.- Она тихо засмеялась.- У нас на курсе есть такой один кретин. Он мне все время названивал и хамил, ну, спрашивал одно и то же: “Даш, когда мне дашь?” А увидел меня с тобой, сразу испугался, замолчал.
– Это хорошо, что отстал,- пробурчал Павел, стараясь не говорить на главную тему – о любви. Женская проницательность, смешанная с самообманом, мешала ему лгать уверенно. Но все же он лгал. Даша подняла голову, вглядываясь ему в глаза, снова засмеялась и покачала головой:
– Нет, не любишь. Но все равно. Завтра увидимся. Может, еще послезавтра… А потом? Можно я тебе напишу? Письмо напишу.
Ладно? Если не захочешь, не отвечай.