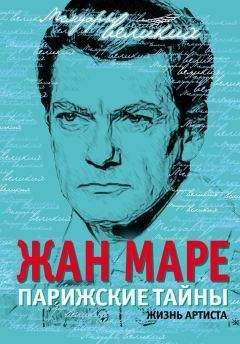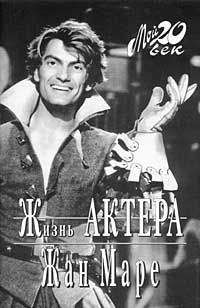Маре Кандре
ЖЕНЩИНА И ДОКТОР ДРЕЙФ
Жемчужно-легкий вечерний свет падал сквозь зарешеченные окна приемной доктора Дрейфа
(расположенной на элитарной Скоптофильской улице,
в центральной части города Триль).
День был длинный и утомительный,
заполненный, как обычно, консультациями, сеансами психоанализа и истерическими взрывами чувств
(да, чувства, чувства, и еще раз чувства и субъективность),
и добрый доктор,
знаменитый аналитик по женским вопросам,
прославленный знаток женщин и всех извращенных и ложных представлений, заблуждений и дремлющих желаний, которые борются за власть в нежном теле женщины и в ее хрупком разуме,
мужчина, посвятивший свою жизнь тому, чтобы попытаться освободить женщину от ее бесконечной психической неполноценности,
крошечный старикашка, почти карлик в огромных очках в черной оправе и в измятом черном костюме,
в глубоком раздумье сидел за своим огромным письменным столом,
закрыв глаза,
и осторожно потирал виски.
Ибо у доктора Дрейфа,
у великого,
начиналась легкая головная боль.
Что, впрочем, неудивительно, если подумать о том хаотическом бреде, который он часами вынужден был выслушивать.
И хотя он и любил свое призвание всеми фибрами души,
но иногда,
когда малокровные женщины неврастенического склада одна за другой входили в его большую запыленную дверь, укладывались на диван и поверяли ему особенности своей души, и казалось, что этому непрерывному каравану страждущих нет конца и края,
да, тогда даже для доктора Дрейфа это было слишком.
— Женщины, — тяжело и беспомощно стонал он,
осторожно потирая кончиками пальцев лоб и виски в неуклюжей попытке избавиться от головной боли,
как будто она была каплями пота или пылью.
— Женщины…
— Женщины…
— Женщины…
В такие моменты он иногда задавал себе вопрос, как он вообще осмелился приняться за этакое дело.
Может быть, ему следовало продолжать заниматься наукой о насекомых, которой он так страстно отдавал все свое свободное время в молодые годы:
ловить сачком экзотических бабочек,
насаживать живых гусениц капустницы на большие, острые булавки,
умерщвлять эфиром жуков-оленей,
и как обычно с наслаждением наблюдать через увеличительное стекло их долгие предсмертные судороги…
Однако что сделано, то сделано,
он раз и навсегда выбрал этот путь, каким бы бесконечным он ни был!
Опасная для жизни, почти непроходимая тропа, ведущая сквозь непролазные джунгли, куда не доходит свет просвещения —
психика женщины!
Да, по правде говоря, сквозь нее приходилось буквально продираться,
быть готовым к самому худшему,
когда ни на секунду нельзя потерять хладнокровия или отвернуться, или соблазниться сладким голосом духа анализа,
ибо тогда он, словно лесная фея, завлечет тебя в края, из которых никогда больше не выбраться.
Нет, это не для слабых!
Если бы люди только знали, что на самом деле таится в этих хрупких, щебечущих женских душах, какие желания, порывы и темные, скрытые страсти.
И Дрейфа охватила сильная дрожь при мысли обо всем том, что он за долгие часы анализа открыл в душах наипрелестнейших старших сестер, матерей, девственниц, подружек и самых безобидных на вид тетушек…
Комната, в которой сидел доктор, дрожащими руками потирая больные виски, была,
несмотря на его научное величие,
слишком маленькой и непритязательной.
Через одно из зарешеченных окон можно было увидеть мертвую, совсем черную яблоню, а на самой дальней из ее ветвей покачивалось жалкое крохотное и почерневшее яблочко
(так оно и висело много-много лет,
нетронутое и сморщенное).
В следующем окне,
в среднем,
стояла запыленная черная кошка с одним ухом и глядела на улицу.
С первого взгляда животное казалось живым, на самом же деле это было чучело старой кошки, которую чувствительный Дрейф так и не смог предать земле.
Вдоль стен шли стеллажи
с пола до потолка.
Стеллажи были заполнены огромным количеством толстых старых фолиантов,
и все они были написаны великим наставником Дрейфа
(упокой, Господи, его душу!),
профессором Попокоффом.
Фолианты представляли собой дело жизни профессора Попокоффа:
изложение истинного духа женщины!
Не имеющий себе равных в мире исследований научный труд…
И в томах этих было все: все, что было сказано, говорилось и могло быть сказано об обманчивой природе духа женщины.
И в любом случае, когда Дрейф затруднялся с объяснением
(такое случалось нечасто, но тем не менее случалось),
он справлялся в трудах профессора Попокоффа,
и неоценимую помощь оказали они ему за все годы его практики,
да, он прямо не знал, как бы без них справился.
Кроме этого, на полках стояли банки, в которых хранились заспиртованные матки, яичники и несколько женских грудей,
даже недоразвитый зародыш девочки плавал в спирту,
беззащитно свернувшийся,
в такой вот банке из пожелтевшего стекла.
И все в комнатке Дрейфа с ее спертым воздухом было покрыто пылью;
любой предмет;
и даже сам доктор
(его густые седые волосы и мешковатый черный пиджак)
был покрыт толстым слоем седоватой пыли.
Ибо он строжайшим образом запретил госпоже Накурс (экономке) вообще заходить сюда со смоченной хлором старой половой тряпкой, метелкой для пыли и прочими причиндалами для уборки.
И, словно при оптическом обмане
(что было весьма странно,
никто из посетительниц так никогда и не понял этого феномена),
стены, окна, дверь и письменный стол казались скошенными,
все куда-то клонилось,
и у каждого, кто входил в комнату, тотчас начинала кружиться голова — и он почти терял равновесие.
(Сам-то Дрейф с годами привык к этому и мог беспрепятственно передвигаться по комнате,
только когда он выходил в настоящий мир, шел по улицам и площадям, только тогда у него начиналась качка и головокружение.)
Кроме громадного письменного стола, за которым теперь расположился доктор Дрейф, в комнате была и другая мебель:
обязательный для любого психоаналитика по женским вопросам красный диван,
просиженное кожаное кресло,
круглый столик красного дерева
и небольшой буфет.
На нем стоял серебряный поднос, а на подносе несколько хрустальных бокалов и красивый графин, наполненный водой
(даже в нем плавали мелкие пылинки, а когда на графин падали лучи послеполуденного солнца, то его содержимое выглядело грязным и несвежим).
Толстые ковры с восточным рисунком, изрядно траченные молью, устилали пол, отчего воздух в комнатушке был невыносимо затхлым,
словно она много веков стояла закупоренной
(вообще-то Дрейф никогда в жизни не открывал окон и не проветривал помещения,
ибо воздух, свежий воздух, и ненавистное солнце —
он плохо переносил еще с младенческого возраста, когда много болел).
А сам доктор, маленький, съежившийся человечек, похожий на карлика,
когда он ходил взад-вперед между письменным столом и книжными полками,
когда протягивал руку, чтобы открыть дверь, или сползал со стула у письменного стола, или влезал на него,
производил смешное впечатление хилого ребенка.
Даже ручку ему трудно было держать в руках, до того они у него были тонкие, почти по-девичьи слабые.
— Ах, да, ах, да, — вздыхал он теперь.
Все-таки раньше было легче,
во времена профессора Попокоффа.
Женщины тогда были сговорчивее!
Они знали, что для них лучше,
знали свое место,
понимали свои границы и не перечили,
хотя даже в те времена случалось, что им в голову приходили самые сумасбродные идеи,
но это легко было исправить;
достаточно было деликатно, осторожно, по-отечески пожурить их и направить, словно детей-переростков, каковыми они по своей сути и являются,
прописать самые обычные пилюли, экстракты, паровые ванны или усиленное питание,
чтобы они поняли, насколько нелепы их выходки,
и довольные возвратились бы к своим занятиям: к кухне, плите, детской и залам родильной больницы,
а сейчас?
Они обращались к нему с желаниями — одно безумнее другого.
На одну вдруг напало ничем неоправданное желание исследовать особый грот, чтобы узнать, лежит ли там и впрямь горка исписанных сивиллой забытых листьев,
другой ни с того ни с сего захотелось изучать влияние света и воздуха на греческие глаголы женского рода!
Да, и не хочешь, а засмеешься, вспомнив все это,
а обеих пациенток, естественно, быстренько препроводили в ближайшую больницу, где их,