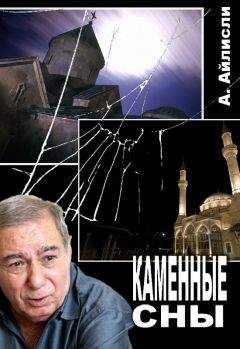Айлисли Акрам
Осень без инжира
Степь без конца и без края, снег по колено, луна, и в лунном свете по колено в снегу идут солдаты, обутые в черные сапоги; солдаты идут впереди и сзади, а он застрял, он не может стронуться с места: нога задубела, и никак он не вытянет ее из-под снега, сил не хватает вытянуть, а солдаты идут, идут и сзади, и спереди, еще немного - и те, что позади, свалят, затопчут его... Он собирает все силы, выдергивает ногу, но сапог увяз, сапог остался под снегом, а те, задние, все напирают, напирают... Он хочет крикнуть, чтобы подождали, чтоб командиру сообщил о беде: "Стойте! Сапог потерял! Сапог!" Он кричит, но никто не слышит его, потому что у него и голос пропал от мороза. Стиснув зубы, шагает он по этому проклятому снегу - одна нога в сапоге, другая - босая, и ужас в том, что разутая нога не мерзнет и не болит, ее будто и нет, этой ноги. С каждым шагом ужас сгущается, тяжелеет, а нога делается все легче, невесомей, потому что тяжесть ее ушла вверх, к сердцу, но ему сейчас не до сердца - нога, ногу пилят! Пила уже дошла до кости сквозь скрип снега под солдатскими сапогами он слышит, как железо скрежещет о кость...
Скрежета этого Зияд-киши не вынес - проснулся; вздрогнул, глянул в окно, сел и набросил на плечи пиджак.
- Жена, - сказал он. - Пропал наш инжир!
Аруз не издала ни звука, но Зияд-киши знал: слышит; за пятьдесят с лишком лет, что он прожил с женой, не было случая, чтоб она не проснулась, если окликнуть. "Женский сон - птичий сон" - в Бузбулаке любому известна эта истина, и здешние женщины с пеленок усваивают ее.
Зияд-киши обул в коридоре галоши, спустился во двор: светло, луна сияет, и не поверишь, что с вечера мело. Небо чистое, без облачка, лунный свет как приморозился к снегу, блестит на нем свежей полудой, а из звезд будто льдинки сеются. Такого мороза не то что инжир - мушмула не выдержит...
"Своей рукой, - сокрушенно пробормотал Зияд-киши, - собственной своей рукой..." Он хотел сказать: "Собственной своей рукой убил", но поостерегся, потому что стоял возле инжира - нельзя, чтобы дерево слышало слово "убил". Горько было ему, потому что знал, потому что с вечера чуял, - быть морозу, хоть снег и валил вовсю, когда он выходил за водой. Он еще подумал укутать инжир - полотнищем, на которое ягоды стрясают с шелковиц, - да поленился из тепла выходить, от печки горячей отрываться. Но главное - погода, не поймешь ее, а то мыслимое ли дело: видишь, что прояснивает, что быть стуже, а ты идешь себе да преспокойненько спать ложишься?..
Пропало дерево, сгубил его мороз. Крона погибла точно, может, ствол ничего, может, уцелел, тогда обрезать весной покороче - обойдется, а уж если и ствол тронут - тогда все, тогда только выкорчевать. Но выкорчевывать ли, пилить ли - одно другого не легче, - Зияд-киши и мысли не мог допустить, чтоб дерева коснулась пила: в ушах у него еще стоял ее мерзкий скрежет.
Зияд-киши словно примерз возле инжирового дерева. Нога опять задубела под снегом и - странное дело - опять не ощущала холода. Сейчас, кроме его онемевшей ноги, на всем белом свете не мерзло лишь инжировое дерево. Зияд-киши точно знал (и откуда он мог это знать?), когда дерево почувствовало холод, когда начало коченеть и когда, вконец закоченев, стало засыпать смертным сном. Дерево ждало его, звало на помощь, беззвучно кричало о беде, и - самое главное - слышал, слышал он этот безмолвный крик, но лень одолела, из постели не захотелось вылезать, из тепла выходить не хотелось... Грех совершен, великий грех - старик понимал это, и он стоял и коченел, коченел, словно муками холода пытался искупить свою вину перед богом и перед деревом...
Зияд-киши вернулся в дом, не чуя ни рук, ни ног. Аруз уже беспокоилась: чего он там - не сдвинулся ли с места "аскал", застрявший под правым коленом?..
Сначала решила подождать: пусть согреется, отойдет, может, и боль отпустит; она ждала долго, но старик все не мог согреться, дрожал, с головой укрытый одеялом, и тогда она молча поднялась и пошла в коридор за дровами. Разожгла печку и снова легла. Печь разгорелась, свет ее озарил комнату, тепло помаленьку стало проникать в зазябнувшее тело; мало-помалу холод отпустил старика, но горе никак не отпускало.
- Пропал наш инжир, жена! Сгубил я его, собственной своей рукой порешил.
Аруз не ответила. Слышалось лишь потрескивание дров, потом и оно смолкло. Огонь потух, дом начал выстывать, и Зияд-киши снова натянул на голову одеяло, но темнота давила его; он высунулся, открыл глаза, поискал глазами окно - увидеть лунный свет, но луна зашла, окно померкло, да и старуха уснула, и тяжко ему было в этой темноте, в безмолвии и одиночестве: беда, что случилась с инжировым деревом, казалась непереносимой...
Инжировое дерево Зияда-киши было единственным в деревне - инжир в Бузбулаке не выживал: больно зима студеная. Посадил он его давным-давно, в молодости, и все эти годы берег, холил, каждую зиму укутывал. Дерево он посадил над рекой, на самом виду, и по осени, когда созревали плоды, весь Бузбулак дивился инжировому дереву. И дивясь, всякий понимал, что хозяин этого чуда - умелец, мастер; да Зияд-киши и сам верил, что он настоящий садовод, когда стоял возле своего инжира, и по весне, когда он брал в руки лопату, чтоб окопать деревья, посадить рассаду или пристроить новые саженцы, вера эта очень помогала ему.
Каждую осень вспыхивало над рекой инжировое дерево, светясь поначалу красными, позже - коричневыми плодами; потом плоды лопались, и их маленькие паст, и, полные ярко-красных зернышек, слепили завистникам глаза. А дерево стояло себе над рекой и каждое утро, на заре молча звало хозяина.
Осенними слякотными рассветами, когда глаза б ни на что не глядели, когда ни вставать, ни делать ничего не хочется, Зияд-киши подымался чуть свет, шел во двор и жадно глотал свежий осенний воздух, дивясь красоте осени и девственной чистоте вселенной. Стоило ему сорвать с дерева пару крупных росистых инжирин и съесть их, чтоб весь день чувствовать бодрость и свежесть, и бодрость эта, как бы запав ему в душу, весь год потом пребывала с ним. Каждую осень полмесяца, а то и целый месяц были праздником для Зияда-киши; теперь все, теперь праздника больше не будет, никогда не будет, и думать об этом в темноте и в одиночестве было сверх человеческих сил.
Зияд-киши хотел было разбудить жену, да пожалел, не стал. Повернулся, глянул в окно и, заметив, что уже светает, обрадовался, задумался; и так, не отрываясь от окна, вдруг увидел Казыма; с деревянной саженью в руках Казым шагал прямо к инжировому дереву: это был тот, тогдашний Казым, Казым-землемер, и председатель Курсак Касым шел за ним, опустив голову. Казым мерил, Курсак подсчитывал - они отрезали от надела Зияда-киши землю для колхоза, и Зияд-киши вмиг сообразил, в чем дело: к инжировому дереву прет подлюга, прямо на него идет - в колхоз решил забрать, сукин сын! А вид делает, будто понятия и не имеет об инжире, - подпрыгивает, ухмыляется - ни дать ни взять лезгин-канатоходец!.. Сажень, пять саженей, пятнадцать саженей... Когда Казым, миновав инжировое дерево, остановился: "Все!", Зияду-киши стоило большого труда не ударить землемера по темечку. Они были ровесниками, вместе гоняли по улицам, немало влепили друг другу оплеух и затрещин, но теперешняя, не удержи себя Зияд-киши, дорого могла бы ему обойтись.
-Неверно меряешь! - сказал он, подходя к Казыму. - Давай сначала!
- Ты что, сдурел?! Как волоском срезано!
- Я тебе тем волоском башку срежу!
Казым вытаращился на него, негромко произнес: "Контра!", постоял, подумал и, видимо, решив что-то, метнулся вниз, к реке.
- Казым! - крикнул председатель. И взглянув на Зияда, тихо сказал: Ведь договорились, чего кобенишься?
- Именно что договорились. Про инжир не было уговору?!
- Дался тебе этот инжир! - председатель досадливо поморщился.
Зияд-киши мигом сообразил, что Курсак вроде за него.
-Так я что? Я разве против? - обрадованно зачастил он. - Я только про инжир. А так берите - словечка не молвлю!
Председатель отступил на два шага, носком сапога сделал на земле метку.
- Клади сюда камень, Казым! Вот сюда! А ты все-таки чудной, Зияд! Ей-богу, чудной. Такие дела, все кругом вверх тормашками, а ты инжир!.. Интеллигент, ей-богу!
Зияд-киши насторожился, можно даже сказать, струсил.
- Это что за словечко такое? Не выговоришь... Умеют же люди слова придумывать!..
- Умеют, - согласился Курсак. - Слово новое, а смысл в нем старый: ежели ты настоящий человек, не мелочись...
Нехотя вскарабкавшись вверх по склону, Казым глянул на метку, оставленную сапогом председателя.
- Почему ж это здесь? - спросил он. Отказаться от инжира ему было не просто: мысленно он давно уже отобрал дерево у Зияда-киши, уже набил живот его крупными, спелыми плодами.
- Тут межа пойдет, - сказал председатель. - Инжир у него остается.
- Тогда меньше получается...