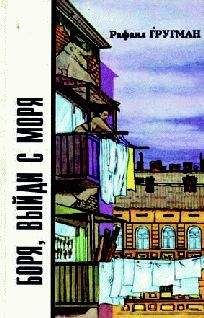Рафаил Гругман
Стена Плача (повести и рассказы)
Где она? В этом маленьком дворике на Новосельской, с каштаном, разросшимся выше двухэтажного флигеля, мраморном колодце, сверху забитом досками, и бельем, висящим поперек двора?
К какой стене примкнуть? К той, где из открытого окна, распевая горло, накатывается на весь двор: «А-а, а-а-а…», или к той, где кормит куклу семечками четырехлетняя леди?
И к той, и к другой стене с интервалом в два дня подошел автобус, и с тяжелыми баулами, торопливо раздаривая соседям оставшуюся утварь, наспех распивая траурное шампанское, и от той, и от другой стены рухнул в автобус осколок Великого Исхода.
Железная табличка в подъезде с указателем ранее проживавших в доме жильцов – мемориальная доска. По живым.
Закрываю глаза.
– Посмотрите, что она мне сыплет на голову?! – неизвестно к кому вопрошает визгливый женский голос. – О! – торгующая виноградом женщина отскакивает в сторону, задирает голову и машет кулаком…
Подметавшее балкон «О» быстро прячется в комнате. Посланные вслед залпы летят в воздух, бесследно растворяясь в плотных слоях атмосферы.
«О» не безлико. Оно появляется вскоре на балконе третьего этажа в виде полногрудой женщины в сиреневом трико и белом, шитом на заказ лифе, с ведром воды и ультиматумом:
– Я тебе вылью сейчас ведро на голову! Ты уберешься со своим виноградом или нет?!
Оцинкованное ведро угрожающе накреняется, в то время как задравшая голову продавщица беспомощно разводит руками, пытаясь объяснить, что ее поставили торговать виноградом именно здесь.
– А у меня из-за твоего винограда пчелы на третьем этаже! Я вся хожу искусанная! – не желает сдаваться «О». – Я тебе в последний раз говорю! – И уходит в комнату, удовлетворенная величием своей угрозы.
Продавщица, с утра тихо мечтающая о небольшом дождике, миролюбиво садится на пустой ящик, выслушивая сочувственные реплики рядом торгующих коллег.
– Как тебе нравится, ей пчелы мешают?!
– Дать ей по рылу, чтобы она успокоилась…
– Оно мне надо с ней связываться, – ободренная сочувствием, отвечает продавщица. – Пусть живет…
– При такой жаре могла бы и вылить стаканчик. Ничего бы с ней не случилось. Руки бы не отсохли, – комментирует переговорный процесс покупатель.
Он протягивает продавщице целлофановый кулек.
– Два килограмма. Только сделайте как себе.
– У нее, наверно, сахар, раз к ней пчелы липнут, – отбирает продавщица красивые гронки. – Ваша жена будет довольна.
– А вы?
– Я уже довольна…
– Так ты уберешься уже или нет?! Или я вызову милицию, что ты торгуешь не на своем месте! – вновь включается третий этаж.
– Женщина! Вам что там, наверху, нечего делать?! – вступается за продавщицу покупатель. – Она же не сама сюда встала!
Через час, когда тропический ливень мгновенно навалился на город и от грозовой канонады затрещали барабанные перепонки, на балконе третьего этажа вновь появилась «О».
– Ты еще не околела?! – кричит она съежившейся продавщице и помахав складным японским зонтиком, бросает его на лоток.
Та смеется, прячась под зонтиком:
– Спасибо! Не дождетесь!
Открываю глаза. Атлантический океан тихо плещется у ног моих. За спиной круглое здание Нью-Йорк Аквариума, бордвок – широкий деревянный настил, окантовывающий знаменитые Кони Айлэнд и Брайтон Бич пляжи, и потный воздух Южного Бруклина.
Бордвок, пограничная полоса «город-океан» – Приморский бульвар дотелевизионной Одессы – вечерами усыпан осколками Великого Исхода.
– Дэвид, ты будешь слушаться бабушку или останешься без Диснейленда!
Четырехлетний Дэвид пытается на роликовых коньках исполнить пируэт, падает, встает, бабушка хватает его за руку:
– Посмотри на этого ребенка, что он вытворяет!
Дэвид, тщетно пытаясь вырваться, использует все средства:
– А я съем твои фудстэмпы! – и для верности показывает язык.
– Мама, оставь его, – вмешивается дочь, – пусть падает – лучше спать будет.
Закрываю глаза.
На другой день «О» спускается за зонтиком и продавщица возвращает его с благодарностью: «Возьми абрикосу. Я дам тебе как на Привозе».
– Спасибо, я уже сделала базар в десять утра.
– Все равно возьми – у меня дешевле. Такой абрикос на улице не валяется.
И они расстаются как лучшие подруги.
* * *
Южный Бруклин – осколок стены.
В приокеанских ресторанах ведущий поочередно объявляет: «Для бывших киевлян…», «Для петербуржцев…», «Для москвичей…» – клич бьет в голову, первые аккорды, как удар невропатолога по коленной чашечке, действуют моментально, и зал реагирует ногами, но когда звучит: «Исполняется для одесситов…» и затем почти всегда: «Пахнет морем и луна висит над самым лонжероном…» – нож в горло – ноги немеют. Не стынут – немеют.
Энтони, двухлетний американец, на это не реагирует. Мама зовет его Антошкой, и он смеется рыжими глазами, не зная еще своего подлинного имени. Как и языка, который станет для него родным. Что ждет внуков его? Новый Исход? И новая Стена? Не приведи, Господи, если что-нибудь еще во власти Твоей.
Балуясь, собака перепрыгивала с облака на облако и на все Нюмкины крики: «Чита, вернись!» не слушаясь, радостно визжала и оглядываясь, не потерять бы хозяина, прыгала дальше. И сорвалась. Это ведь только снизу кажется, что облака висят над крышей. На самом деле они висят очень высоко и прыгать по ним небезопасно.
Безжизненное тело Читы после удара о землю растеклось по асфальту. Нюмка стоял рядом, боясь к ней прикоснуться, вертел ненужный уже ошейник и плакал.
– Сам виноват. Нечего собаку без ошейника отпускать, – назидательно поучал Нюмку солидный мужчина. – Я даже кошку прогуливаю на поводке, – и в доказательство сказанному он вытащил из кармана и показал окружающим кожаный ремешок. – Вот. Сам смастерил. Кошейник называется.
– Как? Как!? – непонимающе воскликнула тугоухая старушка.
– Раз коту одевается на шею, значит, кошейник, – гордо пояснил мужчина.
– Ну, ты изувер! – возмутился доселе молчавший прохожий. – Где это видано, чтобы кошку водили на поводке! Кошка же гордый зверь! Она от природы гуляет сама по себе!
Нюмка медленно отошел от бурно дискутирующей толпы и с ненавистью посмотрел на затянувшееся облаками небо.
– Всегда бы так… И Чита не сорвалась бы… Прыгала бы себе и прыгала…
Солнечный луч раздвинул шторки, молча показал ему кукиш и, опасаясь Нюмкиного гнева, быстро скрылся за облаками. Нюмка пригрозил ему кулаком и поплелся домой.
Он вспоминал, что назван в честь папиного брата, погибшего в Одессе осенью сорок первого, и размышлял: «Если, как говорит мама, душа ТОГО Нюмки вселилась в него в августе шестидесятого, то Читина, тоже безвинно погибшая, в кого вселится она? И когда?»
* * *
Из окна 104-го этажа Всемирного торгового центра Манхэттен как на ладони. Но это только в солнечный день.
В пасмурный облако подкрадывалось к окну пуховым балконом, и Нюмке, для того чтобы увидеть Манхэттен, надо было сделать только один шаг – и полететь. Как на ковре-самолете.
Он так и делал, когда хотел отвлечься на пару минут от компьютера и расслабиться. Cпускаться на лифте вниз, а затем мучительно долго подыматься вверх – утомительное занятие – и зачем, когда есть облака, по которым можно скакать и скакать… Как некогда Чита.
Утро 11 сентября было необычайно солнечным, и облака попрятались в тень. Нюмка не знал этого, и когда весь этаж утонул в облаке, непривычно едком и угарном, шагнул, как обычно, в окно.
И полетел. Но почему-то не над Гудзоном и Бэттэри Парком, как обычно, а вниз, болтаясь и кувыркаясь, как кукла. А за ним – еще, и еще, и еще…
Это ведь только снизу кажется, что облака висят над крышей. На самом деле они висят очень высоко и прыгать по них небезопасно…
По ночам в Бэттэри Парк слетаются Души 11-го Сентября. Среди них и Нюмкина. В кого вселится она и когда?…
Геналю казалось, что он умирает. Несколько дней назад жена его, забрав малолетнюю дочь, поплакала и простилась с ним – его, горящего в температурном бреду, эвакуировать она не могла. Заходила изредка соседка, что-то заносила и уносила, давала пить, что-то говорила. Геналь её не слушал и хотел только одного: спать, спать, спать…
В минуты просветления он вспоминал жену и дочь, и горькая мысль, что он никогда больше их уже не увидит, что они бросили его, предали, забыли, как ненужную вещь, делала его безразличным ко всему. В эти минуты он желал себе скорой смерти и, засыпая, думал, что вот, наконец она пришла.
Галя, нянечка, а по-одесски – фребеличка, его дочери, забежала к Левитам на минутку. Уже два месяца, как ей отказали в работе, но сейчас, узнав от знакомых, что Левиты собираются уезжать, она забежала попрощаться – кто знает, суждено ли будет когда-либо встретиться вновь. За те полгода, что она возилась с их дочерью, Галя успела подружиться и с Геналем, и с Симой, женой его, благо разницы в возрасте почти не было, и стать своей.