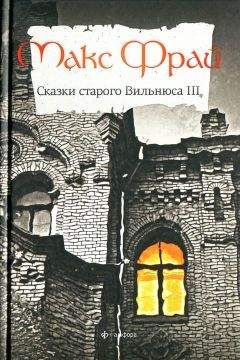Олег Чувакин
Страх
Трава гнулась на ветру, блестя от майского солнца, и в ней, как в зеркале, отражались белые облака. Листья прибалтийских берёз синели от набегавших с неба теней. Тени падали, катились по земле, делая синею и траву. Казалось, что и воздух кругом синий, необыкновенный.
Младший сержант Колька шёл по улице и ел палочкой багровое вишнёвое мороженое. Два года он прослужил в городе Каунасе Литовской ССР. Завтра он в последний раз проснётся в казарме, по шестичасовому утреннему холодку пробежится вокруг плаца (сделает восемь кругов, как в первый день службы), обольётся водой в умывальнике, свернёт одеяло, снимет с подушки наволочку, уберёт с кровати простыни, бросит бельё в узел для прачечной, скатает матрац, — и товарищи по взводу, остающиеся дослуживать — кто полгода, до осени 1990-го, а кто до следующей весны, — проводят его до КПП.
До полудня Колька выстоял очередь в каунасском агентстве «Аэрофлота», купил билет на завтра из Вильнюса. В городской столовой он с удовольствием пообедал блинчиками и горячим фруктовым супом с черносливом, абрикосами и побелевшим изюмом. Проходя мимо витрин, мимо высоких цокольных этажей, сложенных из крупного камня, он задержался у винного магазина, у забранного железом окошка, где выгнулась полукружьем толстая говорящая очередь, ожидавшая водку без талонов, задержался, покачал головой; затем, не надеясь ни на что, завернул в один, другой и третий ресторанчик, спросил там о своём, и официантки одинаково отказали ему: «Негалема. Нам не можно продавать», а в четвёртом ресторанчике вынул из брюк сиреневую бумажку и не протянул, а как-то встряхнул ею, стал держать её у брюк, и тут же покраснел от своей выходки, а официантка скорбно глянула на него, — и, пошатываясь от усталости, он спустился с крыльца, и так, с бумажкой в руке, шурша ею о брюки, дошел до большого ресторана на пешеходной Лайсвес-аллее, — но в гардеробной с готическим потолком сгорбленный глуховатый гардеробщик, продававший, бывало, просителю блок сигарет «Космосас» или же поднимавшийся со стула и шаркавший вглубь, чтобы договориться с официантами о бутылочке, — сегодня совсем, совсем ничего не слышал и не глядел на солдата, глядел на дверь позади солдата.
Покинув ресторан, Колька выбрал в кондитерской торт, в полковой чайной купил лимонад, в казарме отдал ответственному по этажу взводному авиабилет и деньги на хранение и отнёс торт в столовую, чтобы хлеборез поставил его в холодильник. Решив погулять, съесть мороженое, Колька легкими шагами вышел за КПП, радуясь, что не нужна ему уже увольнительная.
И нахлынула на него весна, захрустел под ботинками влажный песок, опустилось на плечи сырое небо — и он чувствовал близость неба, чувствовал, что оно то поднимается высоко, то опускается, — и с ним то поднимался, то опускался Колька.
Парень, литовец, окликнувший Кольку, курил у ивовых кустов и словно бы ждал Кольку.
Кто-нибудь другой, не Колька, засомневался бы: пятнадцать рублей — слишком маленькая цена за такую бутылку. Демобилизовавшийся литовец из его взвода, ефрейтор Накрошюс, заплатил за «Бочю» 25 рублей. А этот парень, наверное, рассчитывал и заработать, — и значит, цена для Кольки могла подскочить рублей до тридцати.
Да, другой человек, не Колька, усомнился бы. Но Колька был Колька, а не другой человек.
«Я сам служил, — сказал ему литовец. — Вон там, на горке. Ты ведь оттуда, солдат?»
Знал Колька, что служивший в армии никогда не назвал бы младшего сержанта «солдатом», а назвал бы «младшим» или «капралом», — в полку на горке иначе не говорили, — и что служивший разбирался бы в наклеенных на погонах лычках, — знал, но почему-то верил парню, соглашался с ним, и отворачивался от него, глядел то на корявую яблоню за забором поодаль, то на сливу.
Парень сдвинул плечи, слегка, до Колькиного роста, наклонился, повертел неопределённо раскрытой широкой ладонью в воздухе, похлопал ею по карману брюк, по-видимому, пустому, — и что-то доверительное, ласковое отразилось в его позе, а в больших голубых глазах, поглядевших мимо Кольки, мелькнули задумчивость и растерянность: как если бы парень не предлагал что-то, а просил об одолжении. Литовец рассказал, что работал вон в том кафе, — он махнул куда-то за крыши домов, — уволился, но там работает его девушка. Он признался, что ему надо заработать, чуть-чуть, рубля два-три, он поиздержался, и девушка смеётся над ним, ведь девушки, работающие в кафе, не очень-то знают цену деньгам. Он не обманет солдата, он сам служил. Может, надо принести две или четыре бутылки? Разве солдат пьет в одиночку, в туалете или под кроватью, и не угощает товарищей? В кафе всегда есть кофейный ликёр. Но кофейный ликер — бурда для алкоголиков, его пить не можно. Солдат пробовал ликёр «Бочю»? Да, у хороших людей всегда хороший вкус.
И Колька представил бутылку белого стекла с пузатым горлышком, с винтовой крышкой и чёрной жидкостью внутри, оставляющей на стеклянных стенках красноватые маслянистые следы. Он и его друзья после ужина сдвинут в казарме тумбочки, усядутся вкруговую на табуреты, откроют лимонад, нальют в кружки шипящий «Дюшес», а чокнутся кружками с ликёром: они разольют его тайно и велят молодому дневальному, выносящему мусор, выкинуть пустую бутылку за бетонный забор. Выпьют понемножку, под торт, и допустят мысль, что скоро бутылки останутся только в книжках и что деньги, кажется, перестали быть товаром, который обменивается на бутылку.
Из переулка вышел старик — и Колька решился. Старик шёл, опираясь на палку, посматривая на них — на парня и на Кольку, — и было в его дрожащей походке, во взъерошенных волосах что-то недовольное, побуждающее к действию.
«В ресторанах не продают тебе, потому что ты носишь погоны. — Парень тоже посмотрел на старика. — Но мы-то с тобой знаем, как устроена жизнь, правда, солдат?»
«Мне надо в полк за деньгами», — сказал Колька.
«Я подожду. Ты недолго. Супрантэ?»
Колька ответил фразой из разговорника: «Аш блогэй супранту лиетувишкай», — плохо, то есть, понимаю по-литовски, — ответил так, хотя совсем не понимал и не говорил по-литовски. И эту фразу он произнёс с каким-то медвежьим акцентом, ощущая неловкость и не понимая, отчего на ум пришла ему эта фраза.
А литовец сказал: «Ничего. Зато я хорошо понимаю русских».
Он именно сказал: «русских», а не «по-русски», — и тут бы в одну секунду всё понять Кольке, понять и сказать что-нибудь литовцу, сказать, например, следующую фразу из разговорника: «Аш нягерю алкоголиню гериму» — я не употребляю алкогольных напитков, — а лучше бы ничего не говорить, лучше бы просто развернуться, как по команде «кругом», и уйти в полк.
Развернуться и уйти.
Пойти по этой улице, вдоль редко стоящих деревянных домов, пойти по зелёной траве, по хрустящему песку, по тротуару, слушать свои шаги и шелест берёз, слушать, как лает за забором овчарка, как она стучит когтями о забор и часто дышит, смотреть на её коричневый тёмный глаз, на чёрный мокрый нос в щели между досками, смотреть на дома, на высокие глухие заборы, зелёные, как трава, и думать, почему у палисадников не врыты лавочки, почему в Литве не принято сидеть на лавочках, как в России, и дружат ли тут соседи, думать, что до остановки троллейбуса не меньше километра, и что мороженщица, наверное, приходит в этот квартал на час, и этот час выучили дети, и ещё думать: какому же, чёрт возьми, кафе находиться здесь?
А парню — парню бы крикнуть Кольке вдогонку, крикнуть, подняв голову, взглянув с восторгом на дома направо, дома налево, взглянув на взъерошенного старика, дрожащей рукою сующего палку в песок или мягко стучащего ею по тротуарной плитке, крикнуть бы Кольке: «Оккупант, отступай в Сибирь!» или «Солдат, бери шинель, иди домой!», или оскорбить Кольку, оскорбить, не сходя с места, бросить русские слова солдату в спину, — а уходящему Кольке, сносящему брань, подумать бы: ну что есть оскорбление, как не изобретение наглецов, принятое гордецами?
Торопясь к литовцу, с шумящим сердцем, с раскрасневшимися щеками, с порозовевшим носом, ступая на каблуки и придерживая фуражку, Колька спустился с горки. Парень небрежно кивнул на ивовые кусты у овражка, сказал: «Что так долго? Я принёс и спрятал», достал пачку «Каститиса» и стал закуривать, пряча в ладонях огонёк и повёртываясь то в одну сторону улицы, то в другую. А Кольке отчего-то захотелось помедлить, захотелось обернуться к парню, оказавшемуся у него за спиной, поговорить с ним, обсудить что-то, например, количество бутылок, ведь парень не сказал, сколько принёс бутылок.
Литовец сильно толкнул его в спину, голова Кольки запрокинулась, солнце, ветки и листья бросились ему в лицо, и, заслонив глаза рукою, теряя фуражку, Колька покатился куда-то.
Скатился он в овраг, поросший по склонам лопухами, а на дне поросший пыреем и кое-где, на чернеющих кочках, пучками осоки. Наверное, когда-то тут бил ключ, вырывался из-под земли, подтачивая вокруг себя песок и землю, унося землю, образуя яму и опускаясь ниже и ниже, а однажды ручей пропал, сгинул в глубине, — и яма стала сохнуть, зарастать травой, на донных кочках вытянулись пучки осоки, а ивы, пустившие корни в сырости, укрепившиеся в глине, надежно укрыли собою овраг.