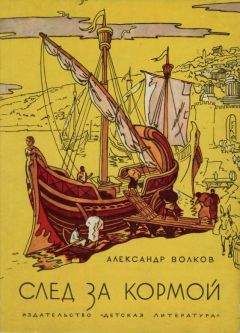Сначала было путешествие через океан: ливень в Ливерпуле, и на причале две девицы (легкого поведения?), поющие «Не сиди под яблоней с другими»[1] укрывшись с головой одним плащом; все толпились под навесами пакгаузов, а эти две девицы стояли у самого края бетонного причала и пели, казалось, для всего океанского лайнера, хотя на самом деле, очевидно, для того или для тех, кто находился ниже пассажирских палуб (подружки морячков?). А потом был Ков в золотом сиянии солнца, и молоденькая американочка из Вирджинии на борту лоцманского катера – трико в обтяжку, как у тореадора, и томик «Улисса»[2] из серии «Современная библиотека» под мышкой напоказ. А потом день за днем идеально ровная окружность горизонта: игра в очко с обладателями стипендии Родса, теннис на палубе со стипендиатами Фулбрайта, бульон, и волны, разрезаемые форштевнем, и пенный след за кормой, похожий на дорогу цвета известняка. Роберт заранее решил, что статуя Свободы его не разочарует, что он примет этот штамп как должное, но она разочаровала его своей устрашающей внушительностью в утренней дымке залива и порывистостью, сквозившей в ее зеленом теле, словно она только сейчас спохватилась, что надо взять факел или во всяком случае поднять его повыше. Малышка на плече у Роберта извивалась в одеяльце, рядом у поручней толпились другие молодые американцы, и он почувствовал, что не может, как положено, насладиться впечатлением от классической царицы эмблем, главной торговой марки. То есть это он, готовый проявить снисходительность, сам оказался не на высоте.
А потом – Америка. Столпотворение транспорта, и особенно такси, которые скапливаются в западном конце сороковых улиц, когда приходит океанский лайнер. Его, его родина. В течение целого года вид одной такой огромной машины, которая, осклабясь, пробиралась в переулках Оксфорда, был для Роберта как призывно реющее знамя, как звук фанфар в пустыне, а здесь этих машин было столько, что образовалась пробка. Они гудели, свирепо сверкая друг перед другом в этой почти тропической жаре, теснясь целыми гроздьями, вызывающе яркие, словно райские птицы. Невообразимые, здесь они были к месту и воспринимались как должное. Англия уже представлялась далеким бледным видением. Казалось, прошло три года, а не три месяца, с тех пор как он сидел один в пустом ряду «американского» кинотеатра в Оксфорде и плакал. Джоанна только что родила. На расстоянии двухпенсовой автобусной поездки она спала на больничной койке, к ножке которой была привязана корзинка, где лежала Коринна. У всех мамаш в палате были какие-нибудь сложности. Тут подобрались ирландки и американки, незамужние или малоимущие. У одной болтливой немолодой мамаши, туберкулезницы, сцеживали молоко с помощью какого-то шумного аппарата. На соседней с Джоанной кровати молодая ирландка целый день рыдала из-за того, что ее муж-иммигрант до сих пор не нашел работу. В часы посещения он рыдал вместе с ней, уткнув рядом в простыни свою курносую физиономию. Джоанна заплакала, когда ей сказали, что здоровых женщин просят рожать дома; они жили в сыром полуподвале, где приходилось скакать с одного островка тепла на другой. Она расплакалась прямо перед всей очередью, и социальная служба прижала ее к своей широкой обтрепанной груди. Джоанне выдали талоны на порошковый апельсиновый сок. Запеленали новорожденную малышку. Он увидел только голову Коринны – розовый шарик, налитой его кровью. Все было так непривычно. На закате в палату явился священник и отслужил англиканскую службу, что повергло мамаш в слезы. Потом пришли мужья с пакетиками фруктов и сластей. Столпившись в приемной, они могли видеть своих жен, сидящих в кроватях с поднятыми изголовьями. Потом, в семь часов, стали бить часы то тут, то там по всему городу. Когда пробило восемь, Джоанна пылко поцеловала Роберта, панически крепко и сонливо нежно. Потом она спала, а он в миле от нее смотрел фильм с Дорис Дэй[3] о мифическом городке Среднего Запада, существующем в недрах голливудских декораций. Домики были белые, веранды – просторные, лужайки – зеленые, тротуары – чисто выметенные, клены возле уличных фонарей – развесистые и тенистые. Манера говорить у Дорис Дэй была характерна для маленького городка, голос – зычный. И вдруг под шуршание оберток от шоколадок «Кит-кат», среди молоденьких легкомысленных продавщиц и британских хулиганов в зловеще черных куртках, Роберт с удивлением и радостью обнаружил, что плачет, плачет искренне и горько по утраченному дому.
А потом бесцеремонность таможни, и чемоданы, один за другим съезжающие по транспортеру, и попытки успокоить вспотевшего ребенка, непривычного к такой жаре. Охранявший врата отчизны херувим с именной биркой на груди позволил Роберту пройти и передать малышку деду с бабкой, тетушкам и прочей родне, ждавшей по ту сторону. Мать привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку, а отец, глядя мимо, пожал ему руку, потом теща с тестем повторили все за ними, и другие родственники соответствующим образом выразили свою радость. Потом все они в нетерпеливом ожидании кружили по сумрачному гулкому залу. Там, в Англии, письма матери – изящные, остроумные, подробные, веселые – были главной ниточкой, связывавшей его с домом, но теперь, когда родители предстали перед ним во плоти, его интересовал отец. Мать слегка постарела, у нее было широкое доброе лицо, раскрасневшееся от волнения и трогательное, – лицо женщины, чья страна так и не решила, что с собственными женщинами делать. В силу своего ума и воспитания мать была человеком европейского склада, и такая близкая.
А вот отец поразил Роберта как нечто новое, как возможное откровение. В Европе такой тип не встречался. На вид старый, невероятно старый – ему вытащили все оставшиеся шестнадцать зубов, пока Роберт отсутствовал, и лицо его казалось перекошенным от боли и осунувшимся, – отец тем не менее держался абсолютно прямо, как ребенок, который только что научился стоять, неловко свесив кисти рук перед собой на уровне пояса. Не желая или не будучи в состоянии сосредоточиться на своем единственном сыне и своей маленькой внучке, он осматривал зал ожидания, изучая фонтан, плакат, рекламирующий вино фирмы «Манишевич», и пуговицы на куртке цветного носильщика, словно все это могло служить ключом к обретению какого-то важного знания. Тридцать лет прослужив школьным учителем, он все еще верил в образование. Теперь он затеял разговор с носильщиком, печально жестикулируя и задавая вопросы, – вопросы, которых Роберт не мог расслышать, но по опыту знал, что они могут касаться чего угодно – тоннажа океанских судов, популярности вина от Манишевича, порядка выгрузки багажа. Любая информация на миг делала отца менее печальным. Носильщик сначала робел, озадаченный и настороженный, а потом, как это обычно бывало, польщенный, разговорился. Люди, спешившие мимо, оборачивались на странный дуэт – высокого изжелта-бледного старика в рубашке с засученными рукавами, сосредоточенно кивавшего, и разглагольствующего маленького негра. Носильщик позвал своего коллегу, чтобы тот подтвердил его слова. Оба размахивали руками и говорили все громче. Робертом овладело знакомое ощущение мучительной неловкости. Отец всегда приковывал к себе внимание. За свой высокий рост он, по случаю другого возвращения из Европы, был выбран на роль Дяди Сэма и осенью сорок пятого возглавлял в их городке местный парад Победы.
В конце концов отец воссоединился с родней и объявил: «Очень интересный человек. Говорит, все эти таблички с надписью: «Чаевых не давать» – сущая чепуха. Говорит, его профсоюз годами борется за то, чтобы их сняли». Отец сообщил это с оттенком торжества в голосе, торопливо приноравливая слова к новым вставным зубам. Роберт раздраженно хмыкнул и отвернулся. Ну вот. Еще и часа не прошло, как он на родине, а уже груб с отцом. Роберт вернулся за барьер, чтобы пройти таможню.
Потом они переправили чемоданы в багажник отцовского черного «плимута» образца сорок девятого года. Небольшая машина выглядела затрапезной и жалкой среди внушительных такси. Подошел молодой белокурый полицейский и сказал, что парковаться у тротуара запрещено, но – столь красноречива была стоическая беспомощность отца – в конце концов помог им поднять огромный старомодный чемодан, принадлежавший матери Роберта еще когда она училась в колледже, и поместить его по соседству с поломанными домкратами, спутанными веревками, дырявыми банками из-под машинного масла и размотанными рулонами баскетбольных билетов, которые возил с собой отец. Чемодан торчал из багажника. Крышку багажника привязали к бамперу обтрепанными веревками. Отец спросил полицейского, сколько такси работает на Манхэттене и правда ли, что, как он где-то прочел, водителей часто грабят и они теперь отказываются ездить в Гарлем в темное время суток. Обсуждение этого вопроса затянулось до конца прощания.