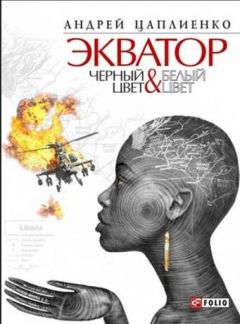— А яичница, между прочим, опять была пересолена, — заметил Бурцев жене после завтрака и поднялся из-за стола. — Ведь это же так просто: лучше не досоли! Не соли вообще и все! Каждый сам посолит по вкусу!
Жена удивленно посмотрела на Бурцева и ничего не сказала.
Бурцев дернул ворот рубашки, так будто ему было трудно дышать, с тоской оглядел стены, выкрашенные во время недавнего ремонта в апельсиновый цвет, и подошел к окну.
За окном неохотно разгорался пасмурный декабрьский денек. Во дворе было пустынно. Снег, выпавший накануне на теплую землю, уже успел превратиться под ногами и колесами в грязную кашу. Два потерянных подростка зябко курили, сидя на спинке скамейки с выломанными досками. На них с ветки, склонив голову, неодобрительно смотрела мокрая сердитая ворона. Посреди двора громоздился старый холодильник с отломанной дверцей, который кто-то из соседей тащил-тащил на помойку, да так и не дотащил, бросил.
— Ё-мое, ну что за люди! — прокомментировал Бурцев.
Жена некоторое время молчала. Потом спросила:
— А что такое?
Бурцев кивнул головой в окно.
— Помойка в двух шагах, пройдись ты еще немного! Так нет! Нужно бросить старье посреди дороги! Чтобы весь двор любовался твоим барахлом. Чтобы никому ни пройти и ни проехать!
Жена внимательно посмотрела на Бурцева и опять ничего не сказала.
Позднюю осень Бурцев не любил. В конце ноября, когда день то и дело угасал, так и не успев начаться, он прямо-таки заболевал. Начинал тосковать и раздражаться. Причем заранее знал, что с ним такое будет, и заранее этого времени боялся.
А с другой стороны, кто, собственно, эту самую осень любит? Кто в это время может похвастаться оптимизмом и отличным самочувствием? То есть, конечно, где-нибудь на юге Италии или, скажем, в Арабских Эмиратах и в начале декабря не жизнь, а сплошной мармелад, но в нашей зоне рискованного земледелия, на севере Нечерноземной полосы, нормальному человеку в конце ноября зачастую хочется просто удавиться…
— А вообще, — в сердцах заключил Бурцев, — все зло от телевизора! Моя бы воля, я бы все телевизоры — на помойку! Смотрим целыми днями всякую дурь! Позволяем ловким идиотам вешать нам лапшу на уши! Раньше хотя бы во время еды отдыхали. А теперь пялимся на экран круглые сутки!
Недавно Бурцевы купили очередной телевизор специально для кухни, и теперь телевизоров в квартире было целых четыре: один, самый большой и новый, — в гостиной, второй у дочки в комнате, третий, маленький, на кухне, а старый из гостиной — в спальне.
Теперь все находились под гипнозом семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки. Даже в субботу за завтраком. Раньше субботние завтраки, когда никто никуда не спешит и можно наконец насладиться семейным уютом, Бурцев любил больше всего на свете. Но теперь и от них было мало радости.
Сегодня, например. Сначала во время завтрака все трое, зевая, наблюдали за одной из бесчисленных юмористических передач — глупой и несмешной. Потом переключились на кулинарную передачу, в которой два дядьки с потрепанными мордами учили молодых смущавшихся девушек кухонному уму-разуму. Потом дочка Бурцева, которая полчаса ковырялась вилкой в тарелке и так ничего и не съела, поплелась в свою комнату смотреть музыкальный канал для молодежи. А жена включила передачу путевых заметок, где немолодой журналист, который уже много лет без остановок ездил на курорты по всему миру, жил в дорогих гостиницах, посещал достопримечательности, как на работу ходил в увеселительные заведения и рестораны, — пробовал перед камерой чьи-то диковинные местные блюда и напитки. На этот раз вид у журналиста был почему-то уставший, и казалось, что он с трудом изображает на загорелом бородатом лице оживление и энтузиазм.
— Ну, елки-палки! — с тоской проговорил Бурцев. — Каждую субботу одно и то же! Поверьте на слово, отменный вкус. И великолепный запах!
Жена вздохнула и встала, чтобы убрать со стола посуду.
— Бурцев! Не заводись, — предупредила она.
— А кто заводится? — резко развернулся в ее сторону Бурцев. — Я?! Я совсем и не завожусь!
Жена пожала плечами и промолчала.
В юности жена Бурцева была бойкой девчонкой. Водилась с хулиганистой компанией у себя во дворе… Поножовщина и милицейские облавы были для нее привычным делом. В свое время Бурцев терпением и лаской не один месяц отваживал ее от прежних дружков. Теперь, конечно, глядя на ее спокойное красивое лицо, трудно было вспомнить прежнее время. Но Бурцев знал, что его жена с тех пор — человек невозмутимый и бесстрашный. И что ее не так-то просто чем-нибудь смутить.
— Между прочим, Таиланд показывают, — заметила она. — Сам же говорил как-то, что там интересно.
— Так интересно самому побывать! А не слушать рассказы о том, какого вкуса там вино и как пахнет цветущий бамбук! — рассердился Бурцев.
Жена хотела было что-то возразить, но, подумав, промолчала, чтобы не подливать масла в огонь.
— Что? — с вызовом обернулся к ней Бурцев.
— Ничего, — ответила жена.
Она стала к раковине и пустила воду на стопку посуды.
— Эх, ну что за жизнь!.. — с чувством проговорил Бурцев и стукнул по раме кулаком.
Потом он махнул рукой и направился прочь из кухни.
— Ты куда? — бросила вслед ему жена.
— Туда!
Бурцев прошел вглубь коридора и толкнул дверь в комнату дочери.
В комнате у пятнадцатилетней дочери работал свой маленький телевизор. На экране нервный диджей с оранжевым хохлом на голове самоуверенно молол в камеру что-то на сленге и в такт словам потряхивал перед лицом растопыренными пальцами.
Дочь, очень похожая на мать, такая же невозмутимая и красивая, рассеянно, в полглаза наблюдала за диджеем и красила ногти — каждый ноготь в свой цвет.
— Та-ак! — сказал Бурцев. — И эта тоже с утра пораньше у телевизора.
Дочь подняла на Бурцева неглупые спокойные глаза. В этих глазах стояло задумчивое твердое выражение, так знакомое Бурцеву по глазам жены.
— А что еще делать? — рассеянно спросила дочь.
— Уроки делай.
Дочка удивленно уставилась на отца, потом потянулась и сказала со снисходительной улыбкой:
— Ты что, Бурцев, заболел? Какие в субботу с утра могут быть уроки?
Бурцев и сам понял, что сказал глупость. Суббота есть суббота, выходной день. Только ненормальный с утра пораньше садится за уроки.
Он нахмурился.
— Сходи куда-нибудь… Зачем торчать дома целыми днями?
Дочка лениво посмотрела в окно, на хмурый неприглядный денек.
— Куда сейчас пойдешь… — справедливо заметила она.
— Как куда! Мало ли хороших мест! В театр, например… Или, там, в музей…
Дочка весело посмотрела на сердитого отца.
— Издеваешься, Бурцев? Кто же в наше время ходит в музеи? Одни ботаны.
— Какие еще ботаны? — строго спросил Бурцев, хотя и сам знал, что дочка и ее приятели ботанами или ботаниками зовут сверстников, которые усердно учатся, слушаются взрослых, читают книжки и не принимают участия в общих развлечениях.
— Ботаны — это те, у кого шансов нет, — пояснила дочь.
— На что нет шансов?
— Ни на что! Они целыми днями сидят за книжками и уроками, и нормальные люди их избегают.
— Нормальные люди — это те, у кого шансы есть, — догадался Бурцев.
— Да.
— А у тебя, конечно, шансы есть?
— Конечно есть!
Дочка с демонстративной небрежностью пожала плечом и опять уставилась на экран.
— Бурцев, не заводись, — предупредила она.
Бурцев, почувствовал, что закипает.
— Ты как с отцом разговариваешь! — возмутился он. — И вообще, какой я тебе Бурцев! Что за манера звать отца по фамилии!
Не отрывая глаз от телевизора, дочка расплылась в нахальной улыбке.
— А как тебя еще называть? — снисходительно спросила она. — Папочка? Папуля? Это тебе не идет. Ты у нас — Бурцев!
Бурцев почувствовал, как за его плечом встала жена, привлеченная разговором на высоких тонах.
— А почему мать у тебя в кармане сигареты нашла? — спросил он.
— Я же говорила, это не мои.
— А чьи?
— Машки Булкиной.
— А почему у тебя в кармане лежат сигареты Машки Булкиной?
— Она специально мне отдает, чтобы ее предки не нашли. Потому что ее предки — сильно злые!
— А мы, значит, добрые?
— Вы — добрые! — расплылась в улыбке дочь.
Бурцев обернулся к жене.
— Вот!
— Что?
— Вот оно — твое воспитание!
Жена не ответила.
— А что это за стриженый тип, с которым ты вчера до полночи сидела на лестнице? — Бурцев опять обернулся к дочери.
Дочка насторожилась.
— Так… Один парень… — сквозь зубы процедила она.
— Ну и тип! Зона по нему плачет. Сколько ему лет? Двадцать пять?
Дочка помедлила. И на ее лице начало проступать знакомое выражение материнского упрямства.