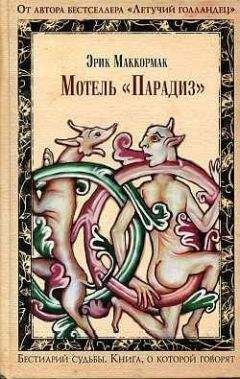Эрик Маккормак
МОТЕЛЬ «ПАРАДИЗ»
Посвящается Нэнси Хелфингер
Что же – мы должны изгнать неведение,
самую плоть нашей жизни,
только затем,
чтобы понять
друг друга?
Р. П. Блэкмур [1]Он дремлет, сидя в плетеном кресле на балконе мотеля «Парадиз». Приземистое дощатое здание смотрит по-над пляжем на Атлантический океан – серый океан в серый день. На нем тяжелое твидовое пальто, перчатки и шарф. Время от времени он открывает глаза и видит, как вдалеке серая вода соприкасается с чуть менее серым небом. Сегодня, думает он, океан – как гигантская рукопись, покрытая, сколько хватает глаз, аккуратным наклонным письмом. На дне, у берега, почерк яснее, и он думает: можно было бы разобрать написанные строки. Но тут – трах! – они бьются о бледно-коричневый песок, о черные камни, об изъеденные временем останки бетонного мола. Слова, какими бы ни были, рассыпаются белой пеной по пляжу.
Имя этого человека – то есть, мое имя – Эзра Стивенсон. В последующем я играю небольшую роль. Главные действующие лица – это четверо Маккензи, чье детство было загадочным, а то и ужасным; и главное в этой истории – то, что произошло с ними потом. Важны и некоторые другие люди: Дж. П., газетчик на пенсии; человек по имени Пабло Реновски, философ и бывший боксер; доктор Ердели, директор Института Потерянных; Доналд Кромарти, старый друг и ученый, который помогал мне в поисках опоры (слово утешения в этом тревожном мире), и кое-кто еще.
Нельзя, само собой, забыть и моего деда, Дэниела Стивенсона. Это он рассказал мне про Маккензи. Если бы он не пришел домой умирать после тридцатилетнего безвестия, я бы, скорее всего, никогда не услышал о них. А может, и никто бы не услышал. Жизнь за жизнью время с неуемным упорством стирает всех, кого стоило бы помнить, – вместе со всеми остальными. Это, по-моему, и есть великий урок истории; но и великое утешение.
С годами я становился все больше похож на Дэниела Стивенсона, моего деда, который умер, когда мне было двенадцать. В зеркале я каждый день видел в себе его. У меня были такие же зеленые глаза, к пятнадцати годам я был с него ростом, а лицо сильно сузилось, так что сходство стало еще сильнее. Словно лицо деда пряталось под моей кожей все эти годы, как зерно, готовое прорасти. Моя бабка, Джоанна, и моя мать, Элизабет, не любили, когда кто-нибудь чужой сравнивал меня с ним. Я тоже был не слишком рад. Я ведь видел старика при смерти и так и не смог этого забыть. Ведь и я однажды стану таким – если доживу до его лет и умру в постели.
Я знал его всего неделю, но все это время мы только и делали, что разговаривали. Сейчас мне вовсе не кажется странным, что я так и не спросил, почему он сбежал из Мюиртона тридцать лет назад. Некоторые дети слишком себе на уме, чтобы даже думать о таких вопросах. Но дед все время намекал мне, и спрашивать не было нужды. У него была привычка смотреть мимо меня, когда он собирался сказать что-то очень личное. Например, своим хриплым голосом дед говорил: – Эзра, знаешь, ведь это чудо, что я ушел отсюда. Я не собирался этого делать. – Он ненадолго задумался. Затем сказал: – Как шквал в море в спокойный день. Это просто случилось. В другой раз он сказал:
– Мюиртон был слишком жестким для меня. Или я был для него слишком мягким, не знаю.
И еще:
– Небо здесь было как тоннель. Мне казалось, я никогда не смогу выпрямиться.
Вот, что он иногда говорил, если не рассказывал о своих странствиях. И еще он употреблял слова «уродство» и «красота», которых ни один мужчина в Мюиртоне не произнес ни разу в жизни. Он, дескать, решил, что где-то в жизни должна быть красота, и отправился ее искать.
В тот день он рассказал мне, как был тридцать лет назад в Патагонии. Обычный мюиртонский дождь шерстил шиферную крышу и закопченные окна на чердаке, где он лежал. Может, это дождь напомнил ему. А может – та кость. Он показывал мне всякую всячину из своих карманов: дырявые жестяные монетки из китайских гробниц, замысловатый узел на пеньковой веревке с Олубы (развяжешь его – будет несчастье), тысячелетние черепки майянской красной керамики (он сказал, красное – это человеческая кровь). А на кости сероватого цвета был вырезан трехмачтовый корабль с туго надутыми художником парусами.
– Так выглядел «Мингулэй», – сказал дед.
Я сидел на краю его матраса и мог лишь угадывать сквозь чердачное окно и дождь размытые очертания сточенных годами холмов Мюиртона. Но, даже не видя их, я знал, что они там, верил в это. Пока дед говорил, я чувствовал его затхлое дыхание, но его лицо с птичьим носом казалось не таким желтым, как обычно. На какое-то время его отстирал поток воспоминаний о тех временах, тридцать лет назад, когда он был молод и силен, и весь мир лежал перед ним.
Он устроился палубным матросом на «Мингулэй» – крохотный трехмачтовик с музыкальным именем. Тот должен был доставить партию ученых и искателей приключений в Патагонию, зловещую пустошь на донышке Южной Америки. Дэниел ничего не знал о ней. Название было всего лишь приятным на слух иностранным словом в учебнике географии. Он не знал, что эти края славятся как кладбище динозавров. Десятилетиями археологи со всего света зарывались здесь под землю в поисках странных и громоздких останков.
На рубеже веков от немногих оставшихся аборигенов и проезжих путешественников поползли слухи, будто предгорья здесь до сих пор топчет живое чудовище, само размером чуть ли не с холм. Знатоки говорили, это похоже на милодона, примитивную разновидность гигантского ленивца. Страна за страной посылали экспедиции в Патагонию, надеясь первыми поймать существо настолько неторопливое, что не успело измениться за миллион лет эволюции.
В конце концов никто, конечно, не нашел никакого чудовища. Свидетельства были фальшивкой, или, что столь же вероятно, мороком, приснившимся сновидцам в сонной стране.
Так что экспедиция, к которой прибился Дэниел Стивенсон, была не успешнее любой другой. Но для него шло в счет само приключение. До этого он большую часть жизни проработал в мюиртонской шахте. Дэниел с три короба наврал руководителям экспедиции, чтобы они взяли его на борт, и когда его взяли, едва мог поверить такой удаче. С самого начала все было удивительно: деревянный корпус корабля под ним дышал, потрескивал и уходил из-под ног; запах соленой воды; секреты самого корабля, государства со странным языком – все эти верпы, кубрики, юты, шпигаты, брамсели, фоки и бакштаги, – каждый день приходилось заучивать новые слова. Он всегда торопился первым взлететь по вантам на шаткую стеньгу, в открытое небо. Там он казался себе птицей, а не слепым кротом, сосланным пожизненно в бесконечные темные тоннели.
Путешествие было долгим. По ночам небо кипело осколками света, но даже в беззвездные ночи корабль тащил в кильватере собственный млечный путь. Днем Дэниел часами следил с бака за тем, как корабль идет на ветер, и чем крепче был этот ветер; тем увереннее шел «Мингулэй». Дэниел чувствовал, что накрепко связан с судном.
Но когда, наконец, оставалось пройти вдоль берега считанные мили, до чего же неприятно знакомой показалась ему Патагония! Как непреклонно завитки тумана вокруг приземистых холмов и лысые болота напомнили ему окрестности Мюиртона! Словно над ним подшутили, и подкоп вышел на поверхность в тюремном дворе. Он почти готов был увидеть за каждым мысом чертово колесо шахтного подъемника, почувствовать резкий запах печного дыма, услышать сирену, улюлюкающую над его поражением.
«Мингулэй» бросил якорь в четверти мили от берега, и весь день команда перетаскивала провизию. Прибой, гигантская злая машина, между шлюпкой и обшивкой корабля раздавил одному из рабочих руку и не оставлял попыток утопить остальных. Но в конце концов, еще засветло, вся провизия и все люди, кроме вахты, оставшейся сторожить судно, были на берегу. На бескрайнем белом пляже экспедиция развела костер из плавника, и повар приготовил на ужин рыбное рагу с пресными лепешками.
Тех вечеров в Патагонии Дэниел Стивенсон не мог забыть. Усевшись в круг света от костра, отгородившись спинами от темноты, они потягивали из кружек ром и рассказывали истории, словно по-прежнему лежали в своих гамаках в кубрике, по пути на юг.
Одна история, которую Дэниел Стивенсон услышал там, в Патагонии, укоренилась в его памяти также прочно, как и пейзаж того края. Экспедиция, к тому времени уже с неделю продвигавшаяся в глубь материка, разбила лагерь на плато у подножья холмов. Была ночь, холодная, дождливая. Рассказчиком был Захария Маккензи, механик, чьей обязанностью было следить за вспомогательным двигателем «Мингулэя».
Это был высокий моложавый человек с шапкой волос, уже начавших редеть. Он кое-что понимал в медицине; когда Дэниел Стивенсон в самом начале путешествия повредил руку о храповик, Маккензи ежедневно делал ему промывания и припарки. Часто, постучавшись к нему в каюту за лечением, Дэниел Стивенсон успевал заметить, как он что-то строчит в желтых блокнотах. Ему, очевидно, нисколько не мешали визиты Дэниела. Возможно, говорил он, им так легко удалось поладить потому, что его специальностью были внутренности корабля, тогда как Дэниел водил близкое знакомство с внутренностями самой земли. Вот и весь юмор, на какой он был способен.