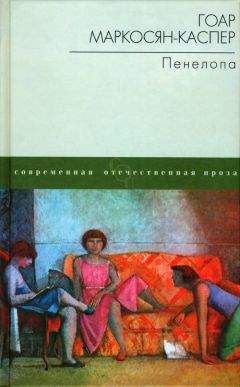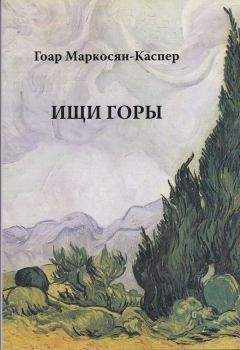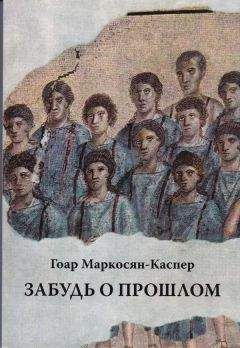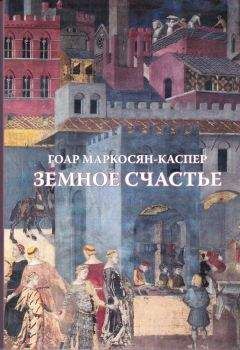Ознакомительная версия.
Гоар Маркосян-Каспер
Пенелопа
Моей дорогой сестричке
Пенелопу разбудил солнечный луч, зеленовато-золотистый и теплый, как дыни, наваленные пахучей горой на исколотом каблучками августовском асфальте. Она осторожно дотронулась до луча пальцем. На податливой, чуть шершавой поверхности осталась вмятина, и это означало, что луч Пенелопе приснился. Он мог и не присниться, поскольку утро в самом деле было солнечным, и в то же время не мог не присниться, потому что вот уже две недели, покинув свою похолодавшую сверх меры комнатушку, по сути, переименованную в таковую веранду с большими окнами и маленьким радиатором (какой теперь радиатор, о Пенелопа!), она спала в гостиной, куда солнце не дотягивалось, но зато просачивалась из кухни некая толика тепла. Впрочем, и той было явно недостаточно, почему и, проснувшись невеселым солнечным утром какого-то там декабря одна тысяча девятьсот девяносто четвер… лучше, пожалуй, сказать, безрадостным солнечным утром, это эффектнее, неожиданно и хлестко, настоящая синекдоха — синекдоха, почти синекура, sine cura, без забот, в сущности, то же, что nonchalance… итак, проснувшись, Пенелопа выставила из-под одеяла озябший носик. Смотри, как изящно может звучать грубый предмет вроде немалой величины и не самых тонких очертаний армянского носа… кстати, и не синекдоха вовсе, а что-то другое, дай бог памяти, зубрили же в институте эти дурацкие стилистические фигуры, кажется, антитеза или оксиморон, или еще какая-нибудь белиберда. Ладно, пошли дальше! Пенелопа проснулась, выставила… это уже было!.. высунула руку и повлекла к себе с холодной, как арктические льды, стеклянной столешницы коротконогого, устойчивого, как крепенький носорог (хотя температура вне пододеяльного пространства вызывала ассоциации скорее с мамонтами, но у мамонтов ноги длиннее), журнального столика томик Джойса. Какой к черту томик, толстенный том, к тому же до отказа заполненный напечатанной самым что ни на есть меленьким шрифтом бредятиной, возведенной снобами в ранг интеллектуальной библии. Да еще с бесконечными комментариями, просвещающими до изнеможения относительно вещей, совершенно неинтересных, но будьте уверены, если вас действительно заинтригует какая-то деталь, комментариев на ее счет, как пить дать, не окажется. И все это приходится читать. Не признаваться же в приличном обществе, что ты не читал/читала (ненужное вычеркнуть) Джойса! Впрочем, на самом деле его не читал никто, во всяком случае, целиком, ибо это просто за пределами вероятного, и если кто-то утверждает, что одолел сие, с позволения сказать, литературное произведение, такого человека можно смело назвать лжецом. Правда, никакие утверждения, ни за, ни против, проверке не поддаются, поскольку еще не родился тот, кто способен на связный пересказ хоть одного эпизода этого текста, сплошной клоаки, как выразился Уэллс. Конечно, и Уэллс понаписал… взять, например, «Блэпингтона Блэпского» — ну и имечко, Блэпингтон Блэпский, то ли дело Эжен де Растиньяк или Жюльен Сорель… Эдмон Дантес, наконец, да, я люблю Дюма и, черт побери, не собираюсь стыдиться этого…
Пенелопа томно уронила Джойса на постель, втянула руку под одеяло и погрузила замерзшие пальцы в теплую пещерку между собственным животом и подтянутыми к нему вплотную коленями.
— Пенелопа, — тихо позвана мать за спиной свернувшейся калачиком, неподвижной дщери. — Пенелопа!
О это дурацкое имя! Длинное и неудобное, как капроновый чулок. Чулки в эпоху колготок, панталоны в эру бикини. Вот именно, панталоны. Пан-та-ло-ны. Пе-не-ло-па. Даже сократить невозможно, не называться же Пеней или Лопой. Почти пень или лопата. Нет уж, лучше длинно и занудно — П-е-н-е-л-о-п-а.
— Пенелопа, — снова позвала мать. — Ты спишь?
Голос ее звучал робко, наверняка сейчас опять о чем-нибудь попросит. Покараулить свет, например. Как будто папа не может поставить на плитку кастрюлю с картошкой. Картошка в мундире, чего проще. Так нет, надо вовлечь в трудовую деятельность весь околоток, эта женщина просто не способна спокойно лицезреть кого-либо, гуляющего на свободе, будь она той киплинговской дамой, никакая кошка у нее не болталась бы сама по себе, а работала как лошадь.
— Пенелопа, — сказала мать в третий, если не четвертый раз.
Пенелопа со вздохом перекрутилась в постели лицом к двери.
— Ну чего тебе? — спросила она строго, изучая материнский облик.
Боже, как эта женщина одета! Кошмар. Под благородный ангорский свитер поддела заношенную или заеденную молью до дыр и заштопанную на самом видном месте водолазку мерзкого болотного цвета. А юбка! Бордовая с черным, широкая, в складку, собралась под длинным свитером, как бочонок. Ох уж эти родители! Вроде взрослые люди, а все равно нужен глаз да глаз. Неусыпный надзор и неустанное руководство.
— Измерь мне, пожалуйста, давление, — попросила мать чуть заискивающе.
— Ты собираешься выйти на улицу в таком виде? — осведомилась Пенелопа, вложив в голос максимум неодобрения, смешанного с сарказмом.
Мать промолчала.
— А почему давление? Болит где-нибудь?
— Затылок. Несильно.
— Я же тебе миллион раз объясняла! Это шейный остеохондроз. Ну нет у тебя давления, нет, сколько мы тебе мерили…
Мать молчала, и Пенелопе стало жаль ее. Боится. Ведь в таком же возрасте от инсульта взяла да и умерла ее мать. Бедная бабушка Пенелопа. Совсем еще не старая, подвижная и добродушная. Наградила, правда, внучку нелепым именем, но это не ее вина, имя-то и ей привалило ни с того ни с сего, впрочем, как раз и с того с сего, от бабушки, самой настоящей гречанки. Так что и в нас — Пенелопа быстро подсчитала — четверть от четверти, одна шестнадцатая греческой крови. Пенелопа, жена Одиссея. Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список кораблей прочел до середины… Интересно, а как назывался корабль Одиссея? Я же читала. Итака. Это остров, а корабль? На чем ездил с Итаки в Трою и обратно хитроумный Лаэртид? Лаэртид разве? Странно, на Шекспира смахивает… Ну в третий раз, Лаэрт. Боюсь, вы неженкой считаете меня… А где наш Гамлет, близкий сердцу сын?.. Коня, полцарства за коня!.. Но только не троянского, тогда уж лучше сесть на корабль да по виноцветному морю… Интересно, что это за море такое? А вернее, что это за вино, ведь скорее вино может быть цвета моря, нежели море цвета вина. Неужели греки пили синее вино? Или зеленое? Вино из чернослива. Или тархуна. Эстрагоновый напиток, не правда ли, экстравагантно? Экстенсивное виноделие, море вина, зеленого, как море. Наверняка какая-нибудь кислятина. Кис-кис-лятина. Был когда-то ирис «Кис-кис», вку-у-усный…
— Хочу «Кис-кис», — сказала Пенелопа, с вожделением облизывая сухие губы.
— Как? — удивилась мать.
— Ирис «Кис-кис». Помнишь, был такой?
— Не помню.
О господи!
— Посмотри на эту женщину, Левончик! — обратилась Пенелопа к большелапому, с пышной рыжей гривой игрушечному льву, восседавшему на груде сложенных в кресло диванных подушек. — Она не помнит, что такое «Кис-кис».
— Чтоб Левон сдох! — привычно возмутилась мать. — Не смей называть нашего Мишеньку этим именем!
— Во-первых, это лев, — лениво возразила Пенелопа. — Вот это — лев, — уточнила она, указывая носом, ибо все прочее было надежно укутано, на плюшевого зверя, которого сама же, видимо, из духа противоречия, окрестила Мишей. — Во-вторых, Левон — твой президент. Сама выбирала.
— Чтоб он провалился, — заупрямилась мать.
— Пускай проваливается, — легко согласилась Пенелопа. — Мне что? Я за него не голосовала. Это ты и тебе подобные посадили его в президентское кресло.
— Я?! Я никого никуда не сажала, — решительно отмежевалась мать.
— Ага. Таково постсоветское понимание демократии, — сообщила Пенелопа внимательно слушавшему эту перепалку льву. — А давление я тебе измерю, так и быть. Вот только встану.
— Я через пять минут выхожу.
— О боже мой! Встаю, встаю… — Пенелопа застонала, закатила глаза, потом скосила их на мать и деловито добавила: — Немедленно переоденься. Сними эти лохмотья. Видно же в вырезе! И юбку поменяй. Надень серую.
Мать скорбно покрутила пальцем у виска и удалилась. Пенелопа выдохнула, проверяя, нет ли пара изо рта, подобралась для рывка, потом снова расслабилась, решила сосчитать до десяти. Лучше б, конечно, до ста или тысячи. Хотя и это не годится, бесконечное оттягивание испытания тоже выматывает. Как на экзамене. Ладно, раз, два, три, четыре, пять, шесть…
Пенелопа пела. «Дольче Аи-ида (дальше она по-итальянски не знала, только первые два слова — два? Ха-ха!), в солнца сия-а-ньи нильской доли-и-ны чудны-ый цветок», — напевала она. Пенелопа любила попеть, но распевала она исключительно мужские арии из опер, по преимуществу итальянских. Плюс Хозе и Герман. Не то чтоб она когда-либо мечтала спеть на оперной сцене Радамеса или Каварадосси, вовсе нет. Хотя, откровенно говоря, в ранней юности она грешила грезами подобного рода, мысленно рисуя себе толпы млеющих, стонущих, ревущих от восторга зрителей, потоки, вихри, лавины цветов, сыплющихся на просцениум словно с неба, а на деле из верхних лож, как это проделывают ловкие клакеры из Большого, и среди цветов себя, гибкую и изящную, с тончайшей талией, утопающую в водопаде пышных, длиннющих волос, звончайшее меццо-сопрано мира, Амнерис и Кармен, каких еще не видел обалделый белый свет. Вполне естественные мечты для дочери оперного певца. Однако не вышло, меццо-сопрано оказалось не звончайшим в мире, да и вообще не меццо, а просто сопрано, а Пенелопа с детства презирала бесхарактерную дуру Аиду, не говоря уже о несуразной Микаэле, наконец, даже волосы ей не удавалось в должной степени отрастить, так что оперные арии она пела только дома и единственно мужские, оглашая квартиру то звуками романса Хозе, то второй арией Каварадосси, благо слуха у нее было достаточно, чтобы придать своим вокализам узнаваемость, периодически нарушаемую, правда, недостатком голосовых данных. Но если вокальные возможности, или скорее невозможности, невыгодно отличали ее от оперных знаменитостей, в ее актив несомненно следовало занести богатство мимики и редкостную подвижность в ходе исполнения. Ибо Пенелопа не только пела, но и непрерывно перемещалась, убирая постель и наводя в комнате относительный порядок. Профессиональная певица перед тем, как взять первую ноту, установила б себя для пения в некую вынужденную позу с выпяченной грудной клеткой и намертво упертыми в пол ногами, Пенелопа же сновала по помещению, сгибалась и разгибалась, складывала простыни и одеяла, хаотично передвигала мешавшую ее действиям подушку в разные стороны, перетаскивала, наконец, кресла и «носорога» на их дневные места и при этом еще меланхолично прикидывала, не пора ли внедриться в родительскую спальню, куда она уже проникла прошлой зимой, благополучно захватив треть двуспального ложа родителей и оттеснив мать в объятия отца. Мимоходом она кинула взгляд на стенные часы — не время ли? График по свету на этой неделе был утренний, с одиннадцати, пару дней назад, кажется, перешли на часовой, так что можно ожидать к двенадцати, если дадут на час, ну а коли повезет и продержат два, то включат раньше. Часы показывали ровно половину одиннадцатого, они имели скверную коммунистическую привычку вечно забегать вперед, но заводили их только позавчера, и оставалась надежда, что очень уж далеко им убежать не удалось. Подумав, Пенелопа нажала на выключатель — пропустишь, чего доброго, вожделенный миг, окна-то закрыты наглухо, и на обычные источники оповещения полагаться не приходится, даже подстанцию можно не расслышать. Подстанция, построенная лет пятнадцать назад посреди не слишком большого их двора, гудела своими чиненными и перечиненными трансформаторами, как целый заводской цех… заводы, впрочем, Пенелопа видела только по телевизору, но представляла их довольно отчетливо — как нечто вроде подстанции с трансформаторами, наспех перемотанными, но не залитыми трансформаторным маслом за отсутствием такового. Впоследствии масло в городе, по слухам, появилось, но в трансформаторы его так и не залили, утверждали, что в работающий нельзя, вот когда перегорит в следующий раз… Поскольку предыдущий был весной и с каждым днем отодвигался все дальше в прошлое, следующий, следовательно, был все ближе. Следующий, следовательно, по неумолимой логике причин и следствий, последовательно подступал, нависая дамокловым мечом над кварталом, домом и лично Пенелопой, над ее неистребимым пристрастием к неустанной и непрерывной гигиене. А ну-ка, ну-ка? Пенелопа прислушалась, забыв о задействованном выключателе. Нет, показалось. Детские крики во дворе имели, очевидно, причины иного свойства, это не был боевой клич «Све-е-ет!», сотрясавший стены и фундаменты в момент, когда — всегда неожиданно — подстанция оживала, своим жужжащим басом, как заводской гудок, созывая домохозяек на героический труд.
Ознакомительная версия.