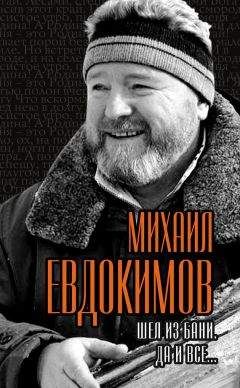Николай Семенович Евдокимов
У памяти свои законы
Мне уже нужно было ехать на работу, а он не звонил.
— И не позвонит, — сказала Лена.
Она причесывалась у зеркала, запрокинув голову. Волосы ее потрескивали, пахли морской водой. Там, в зеркале, я видел ее лицо. Даже после сна оно было молодым, без морщин, и красивым. Таким же, как и пятнадцать лет назад, когда мы поженились.
— Не позвонит, — повторила она, — вот увидишь.
— Не каркай!
Она вздрогнула.
— Ты обещал на меня не кричать…
— Извини, — сказал я.
Она положила гребенку, подкрасила губы и, глядя на меня в зеркало, спросила:
— Неужели тебе приятно, когда тебя боятся?
— Директора должны бояться.
— Не думаю. Это унизительно.
Я начал злиться: и без нее достаточно наслушался нравоучений. Еще недавно мне было тесно от друзей и доброжелателей, а теперь… стоило задуть ветру, и вот… опереться почти не на кого.
— Не пой с чужого голоса, — сказал я.
— У меня слуха нет. Я просто не могу петь с чужого голоса.
— Хватит, на работу опоздаешь. И Варваре пора в детский сад.
Из кухни кричала Варя, радостно сообщая, что она доела всю кашу.
Я не стал их провожать. Но когда хлопнула за ними дверь, все же подошел к окну. Варя протопала красными сапожками по ночной луже, обрызгала Лену. Лена не рассердилась, взяла ее за руку. У ворот они обернулись.
— Папа, помаши из того окошка, — крикнула Варя.
Я прошел в столовую, стал ждать, когда они обойдут дом.
В простенке между окнами на кнопке криво болталась злополучная статья из областной газеты. Кусочек бумаги, полный яда и лжи. Я сам вырезал ее, сам прикрепил тут, на видном месте. Честное слово, ничего более несправедливого я не читал никогда. Фрезеровщик Пашка Цыганков и еще три таких же демагога, как он собрали всевозможные сплетни обо мне. Дескать, я груб, дескать, мало доверяю людям, плохо знаю их настроения, пренебрегаю мнением коллектива и за все берусь сам. Дескать, я чинуша. Так и написано. А ныне, мол, особенно недопустимы высокомерие, бюрократизм, чванство, голое администрирование. Одним словом, повезло: десять заводов в нашем городе, а Пашка Цыганков завелся именно у меня. Удивительно: его ведь считали моим любимчиком. Отблагодарил любимчик за все. Сполна.
Из-за угла дома показались Лена и Варя. Я увидел их и почти одновременно услышал, как в спальне зазвонил телефон. Я никогда не бегал к телефону, но сейчас побежал. И, пока бежал, не без злорадства подумал, что со стороны я, наверно, смешон, что обстоятельства меняют людей. Я ударился коленкой о стул, дохромал до телефона и, растирая ногу, поднял трубку.
Это звонил он, Шамаев.
— Жив? — спросил он.
— А что мне сделается? — Я бодро хохотнул.
— Настроение?
— Боевое!
Я услышал Варин голос: она звала меня, стоя под окном столовой.
— Извини, вчера позвонить не мог: был на даче.
— Пустяки, — проговорил я, вспомнив, как весь день и всю ночь ждал этого звонка.
— Думал, отдохну, а тут дождь зарядил. У вас какая погода?
Варя звала меня. Голос у нее был обиженный, плаксивый.
— Жара, — сказал я.
— А у нас дожди. Между прочим, розы, которые мы с тобой сажали, зацвели. Сказка!
— Да ну? — удивился я. Я хотел удивиться радостно, но удивился кисло, фальшиво, чувствуя, что сейчас потеряю самообладание и наговорю в трубку грубостей: что за дурацкая манера тянуть из человека жилы. Да черт с ними, с розами, пусть хоть и вовсе зачахнут там от дождей.
Варя звала меня. Я знал, она сейчас заплачет: ведь я никогда не обманывал ее.
— Подожди, пожалуйста, — сказал я в трубку. — Чайник выключу.
Я положил на стол трубку, пошел в столовую. Варя стояла под окном, кричала:
— Папа!
— Здесь я. Иди, опоздаешь.
Она успокоилась, махнула мне и побежала по улице.
— А Шамаев, между прочим, позвонил, — не без торжества крикнул я Лене и вернулся к телефону.
— Ну… слушаю… — сказал я, чувствуя, что звонок этот ничего утешительного мне не принесет. И оттого, что я понял это, мне сразу стало будто спокойнее: я мог теперь хоть целый час разговаривать о погоде и о розах. — Значит, зацвели все-таки?
— Угу.
— Как жена? — спросил я. — Дети?
— Прекрасно. Лене привет передай.
— Спасибо, — вежливо сказал я, — обязательно передам.
Нет, первый я его ни о чем не спрошу, пусть сам все скажет. И наконец он не выдержал:
— Теперь о деле, а то времени мало…
— Давай о деле, — проговорил я, подумав, что нервы у меня еще крепкие, еще очень крепкие у меня нервы.
— Видишь ли, дорогуша, порадовать я тебя не смогу. Начальство шибко сердится.
— Так, — сказал я. Мне нестерпимо захотелось курить, я прижал трубку плечом, зажег сигарету.
— Что молчишь?
— Закурил… Удивительно: меня в грязи искупали, и я же виноват. Эта статейка — клевета.
— Слово «клевета» забудь, — сказал он. — Есть мнение: статья своевременна и правильна.
— Все передернуто! Каждый факт поставлен с ног на голову…
— Рассказывай! — проговорил он, и я будто увидел, как пухлое его лицо скривилось в иронической гримасе. — Хочешь совет? Критика и самокритика что такое? Движущая сила. Вот и двигай вовсю эту силу. Тебя покритиковали? Теперь отсамокритикуйся.
— В чем?
— «В чем, в чем». В чем хочешь, будь гибче.
— Нет, — сказал я, — хитрить не в моей натуре.
— А зачем хитрить? Надо умно себя вести, маневрировать надо. Между прочим, учти, кто-то подсунул идейку сделать из тебя козла отпущения.
— Уже сделали, дальше некуда.
— Есть, — сказал он. — Например, с работы снять. Для назидания другим. Есть и такое мнение.
— Ну, знаешь ли, для этого нужны факты. Факты! А тут голая демагогия, художественный свист.
— Было бы мнение, а факты найдутся.
— Какие?!
— Хватит дурака валять, — сказал он, — не маленький. Иные времена, иные песни. Все серьезнее, чем кажется. Бездушие, чинушество, грубость, администрирование — это что? Тебе мало?
— Еще недавно я хорош был: даже портрет в «Огоньке» напечатали, а теперь…
— Ты еще вспомни, что сто лет назад было.
— Ясно, — сказал я. — Сегодня же прилечу. Встречай.
— Сиди, не ершись. Я тут пока сам пошурую. У тебя программа-минимум на данный отрезок времени — отсамокритиковаться. Помни: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Завтра я в Москву лечу. Попробую добраться до Кирилла, с ним поговорить.
— С кем?
— С Кириллом!
— А… — У меня даже сердце екнуло от радости, я совсем позабыл о Кирилле. Мы учились с ним в институте. И кто бы мог тогда предположить, что тихий этот парень вознесется так высоко. Я потому и забыл о нем, что он был так высоко.
— А это удобно? — спросил я. — Я ж его лет десять не видел, забыл он, наверно.
— Такие люди ничего не забывают. Как-никак он в твоем костюме на свидания ходил к своей Наденьке. Я напомню…
Это правда, Кирилл действительно ходил на свидания к своей будущей жене в моем новом костюме. Впрочем, это воспоминание не обрадовало меня: я считал себя правым и правды хотел добиваться честно, а не требовать возвращения долгов.
— Нет, — сказал я, — ты ничего не будешь ему напоминать. Это низко.
— Ладно, не твое дело. Прощай. Жди. Сиди тихо и жди. Пока.
Я положил трубку, вытер вспотевшую ладонь о колено и пошел на кухню. На столе стояла тарелка с картошкой и сосисками. Сосиски были уже холодными, они сморщились, словно постарели тут, ожидая меня. Есть я их не стал, сварил кофе и закурил. Итак, Шамаев ничего не смог сделать, а в том, что он старался изо всех сил, я не сомневался. Он не маленькая фигура в области, но, видимо, и для него наступили невеселые времена, если он теряет влияние. Я не обольщался, я знал, он не столько старается для меня — все же мы старые друзья, — сколько заботится о самом себе: ведь и ему надо на кого-то опереться.
Я допил кофе, спустился во двор. Пока еще, слава аллаху, я твердо стою на ногах, пока еще меня не выселили из этого дома и не погнали с завода, это еще моя территория, где я хозяин. Иначе и не будет. Не может быть. В городе много заводов, мой не такой уж большой, но я не лезу в начальники покрупнее: я люблю свой завод. Он и я — мы одно целое. Нас нельзя разлучить, он мое детище, потому что вырос на пустыре, на городской свалке; я первым положил первый кирпич в его фундамент — это в любом смысле, и в переносном и в буквальном. Я его создатель, я; нас нельзя разлучить, как нельзя разлучить отца с его ребенком.
Я запер дверь, перешел улицу, свернул в переулок и оказался в царстве индивидуальных гаражей — прижатых друг к другу кособоких домиков, обитых проржавевшим железом.
Возле своего закутка колдовал над мотоциклом Мясников. Жаль парня: купил недавно мотоцикл, дрожал над ним, как ребенок над любимой игрушкой, а несколько дней назад на стоянке у заводоуправления кто-то безжалостно помял эту игрушку. Впрочем, так, наверно, всегда: то, что больше любишь, что стараешься сберечь, то, видимо, скорее всего и теряешь.