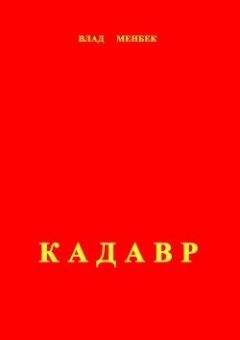Чарльз Буковски
(Сборник рассказов)
Каждый новый читатель открывает для себя Буковски со сладкой дрожью запретного удовольствия.
The New Yorker
«Лирический герой» Буковски — редкостный кадавр. Моя бабушка точно кинула бы в него поленом. Он пьет (крепкие спиртосодержащие напитки, а не компотик). Он ругается — виртуозно и с удовольствием. Он рассказывает, как однажды за вечер переспал с тремя женщинами (одна пьянее другой). И как жил в публичном доме. И в доме у прославленного поэта, причем это мало отличалось от публичного дома, может быть, только пышностью декораций. Он много чего вытворял в этом сборнике, и его окружение не лучше. При этом, на фоне предельно противного каждому обывателю антуража, рассказы Буковски очень хороши. Рассказы вообще писать трудно, а делать это увлекательно, честно и искренне, да еще учитывая тот самый антураж, — трудно вдвойне. А Буковски делает это с легкостью.
Текст-эксперт
Буковски принадлежит к тем талантливым самокопателям, чьи истории никогда не надоедает читать, какими бы заурядными ни казались описываемые случаи. Все дело тут, конечно, в замечательном языке и особом взгляде на мир — они заставляют прислушиваться к каждой мысли писателя.
Русский журнал
Кэсс была самой молодой и красивой из 5 сестер. Первой красоткой в городе. На 1/2 индеанка, с гибким и странным телом, змеиным и горячим — а уж какие глаза… Она вся была живое пламя. Словно дух в изложницу залили, а удержать не смогли. Волосы черные, длинные, шелковистые, танцевали и кружились без устали, как и вся она. Дух ее либо парил в вышине, либо стелился по земле. Среднего не дано. Некоторые утверждали — Кэсс чокнутая. То есть так считали тупые. Они-то никогда Кэсс не могли понять. Мужикам она казалась только машиной для траха, тут уж плевать, чокнутая или нет. А Кэсс танцевала и флиртовала, целовала мужчин, но, если не считать пары раз, когда доходило до постели, умудрялась ускользнуть. Она избегала мужчин.
Сестры обвиняли ее в том, что она злоупотребляет своей красотой, что у нее ум сонный, но у Кэсс и ум, и дух были что надо: она писала маслом, танцевала, пела, лепила из глины всякие штуки, а если кого-нибудь обижали, душевно или же телесно, Кэсс глубоко сочувствовала. Просто ум у нее был другой — непрактичный. Сестры ревновали, потому что она притягивала их мужиков, и злились, поскольку им казалось, что она мужиками этими распоряжается не лучшим образом. У нее была привычка по-доброму обходиться с уродами; от так называемых красавчиков ее тошнило.
— Кишка тонка, — говорила она. — Без перчика. Думают, главное — идеальная форма ушей и тонко вылепленные ноздри… Одна видимость, а внутри шиш… — Характерец у нее граничил с безумием; для кого-то он и был безумием.
Ее отец умер от кира, а мать сбежала и оставила девчонок одних. Девчонки пошли к родственникам, те определили их в женский монастырь. Монастырь оказался безрадостной дырой, причем больше для Кэсс, чем для сестер. Другие девчонки ей завидовали, и Кэсс дралась почти со всеми. Вдоль левой руки у нее бежали царапины от бритвы — защищала себя в паре драк. На левой щеке тоже остался изрядный шрам, но он скорее подчеркивал ее красоту, чем портил.
Я познакомился с ней в баре на Западной Окраине как-то вечером, Кэсс только-только выпустили из монастыря. Поскольку она была младше прочих сестер, вышла последней. В том баре она просто взяла и подсела ко мне. Большей страхолюдины, чем я, в городе, наверное, не найти — может, потому и подсела.
— Выпьешь? — спросил я.
— Конечно, чего ж нет?
Едва ли в нашей беседе в тот вечер было что-то необычное — это Кэсс вся лучилась. Она меня выбрала — вот и все дела. Никакого напряга. Выпивать ей нравилось, и залила она довольно много. Совершеннолетней казалась не вполне, но ее все равно обслуживали. Может, у нее ксива была липовая, не знаю. Как бы то ни было, когда она возвращалась из уборной и садилась, во мне шевелилась какая-то гордость. Первая красотка не только в городе, но и в жизни я прекраснее редко встречал. Я положил руку ей на талию и поцеловал один раз.
— Как ты считаешь, я хорошенькая? — спросила она.
— Да, конечно, но тут еще кое-что… внешность ведь не главное…
— А меня всегда обвиняют, что хорошенькая. Ты по правде так думаешь?
— Хорошенькая — не то слово, оно едва ли отдает тебе должное.
Кэсс сунула руку в сумочку. Я думал, платок достает. А она вытащила здоровенную булавку. Не успел я и пальцем дернуть, как она себе проткнула этой булавкой нос — сбоку, прямо над ноздрями. На меня накатило отвращение пополам с ужасом.
Она взглянула на меня и рассмеялась:
— А теперь? Что теперь скажешь, мужик?
Я вытянул у нее из носа булавку и придавил ранку своим платком. Несколько человек вместе с барменом наблюдали представление. Бармен подошел.
— Послушай, — сказал он Кэсс, — будешь опять выпендриваться, мигом вылетишь. Нам твои спектакли не нужны.
— Ох, да иди ты на хуй, чувак! — отозвалась она.
— Приглядывайте за ней, — посоветовал мне бармен.
— Ничего с ней не будет, — заверил я.
— Это мой нос, — заявила Кэсс. — А я со своим носом что хочу, то и делаю.
— Нет, — сказал я, — мне тоже больно.
— Тебе что, больно, когда я тычу булавкой себе в нос?
— Да, больно. Я не шучу.
— Ладно, больше не буду. Не грусти.
Она поцеловала меня, как-то даже при этом ухмыляясь и прижимая платок к носу. Ближе к закрытию мы отправились ко мне. У меня еще оставалось пиво, и мы сидели и разговаривали. Тогда я и понял ее как личность: сплошь доброта и забота. Все на лбу написано. И тут же отскакивает обратно в дикость и невнятицу. Шиза. Эдакая прекрасная и духовная шиза. Возможно, кто-нибудь, что-нибудь погубит ее навсегда. Я только надеялся, что это окажусь не я.
Мы легли в постель, и, когда я выключил свет, Кэсс спросила:
— Ты когда хочешь? Сейчас или утром?
— Утром, — ответил я и повернулся к ней спиной.
Утром я поднялся, заварил пару чашек кофе, принес одну ей в постель.
Она рассмеялась:
— Ты первый, кто отказался ночью.
— Да ничего, — ответил я, — можно и вообще обойтись.
— Нет, погоди, теперь мне хочется. Дай я чуть-чуть освежусь.
Кэсс ушла в ванную. Вскоре вышла: выглядела она вполне чудесно — длинные черные волосы блестели, глаза и губы блестели, сама она блестела… Свое тело она показывала спокойно — мол, хорошее же. Она легла и укрылась простыней.
— Давай, любовничек.
Я дал.
Она целовалась самозабвенно, но без спешки. Я пустил руки по всему ее телу, в волосы. Оседлал. Там было горячо — и тесно. Я медленно начал толкаться, чтобы продлилось подольше. Ее глаза смотрели прямо в мои.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— А какая тебе разница? — спросила она.
Я расхохотался и погнал дальше. Потом она оделась, и я отвез ее обратно в бар, но забыть Кэсс оказалось трудно. Я тогда не работал и спал до двух, вставал и читал газету. Как-то раз отмокал в ванне, а она зашла с огромным листом — бегонии.
— Я знала, что ты будешь в ванне, — сказала она, — поэтому принесла тебе кое-что прикрыть эту штуку, дикарь ты наш.
И кинула мне лист прямо в ванну.
— Откуда ты знала, что я буду в ванне?
— Знала.
Почти каждый день Кэсс заявлялась, когда я сидел в ванне. В разное время — но промахивалась редко, и всякий раз при ней был листок бегонии. А после мы занимались любовью.
Раз или два она звонила по ночам, и мне приходилось выкупать ее из каталажки за пьянство и драки.
— Вот суки, — говорила она. — Купят выпить пару раз и думают, что это уже повод залезть тебе в штанишки.
— Стоит принять у них стакан — и беды сами на голову повалятся.
— Я думала, их интересую я, а не только мое тело.
— Меня интересуют и ты, и твое тело. Сомневаюсь, однако, что большинство видит дальше тела.
Я уехал из города на полгода, бичевал, вернулся. Кэсс я так и не забыл, но мы из-за чего-то поцапались, да и все равно я понимал, что пора двигать дальше, а когда вернулся — прикинул, что ее здесь уже не будет, но не успел и полчаса просидеть в баре на Западной Окраине, как она вошла и уселась рядом.
— Ну что, сволочь, я вижу, ты опять тут.
Я заказал ей выпить. Потом посмотрел на нее. Она была в платье с высоким воротником. Я раньше на ней таких никогда не видел. А под глазами вогнано по булавке со стеклянной головкой. Видно только эти головки, а сами булавки воткнуты прямо в лицо.
— Черт бы тебя драл, зачем портить красоту, а?
— Нет, это фенька такая, дурень.
— Совсем спятила.
— Я по тебе скучала, — сказала она.