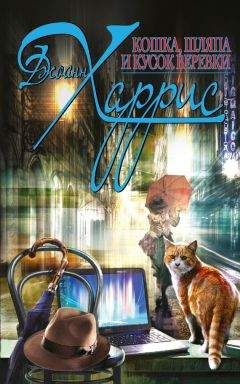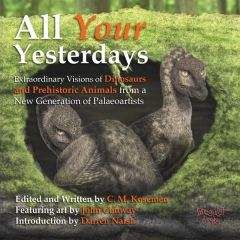Джоанн Харрис
Ежевичное вино
Моему деду Эдвину Шорту, садоводу, виноделу и поэту в глубине души
Вино говорит. Это общеизвестно. Оглядитесь. Спросите уличного оракула, незваного гостя на свадебном пиру, юродивого. Оно говорит. Оно чревовещает. У него миллион голосов. Оно развязывает язык, выбалтывая тайны, которые вы не собирались выдавать, тайны, которых вы знать не знали. Оно кричит, разглагольствует, шепчет. Оно говорит о великих вещах, о гениальных планах, трагических страстях и ужасных предательствах. Оно хохочет до упаду. Оно тихонько хихикает себе под нос. Оно рыдает при виде собственного отражения. Оно вытаскивает на свет летние дни, давно минувшие, и воспоминания, крепко забытые. От каждой бутыли веет иными временами, иными местами; каждая, от простецкого «Молока Мадонны»[1] до надменной «Вдовы Клико» 1945 года, — скромное чудо. Джо называл это будничным волшебством. Превращение низменной материи в грезы. Любительская алхимия.
Возьмите, к примеру, меня. «Флёри»[2] 1962 года. Последний из двенадцати могикан, розлитых и уложенных в деревянный ящик в год рождения Джея. «Бойкое, говорливое вино, веселое и немного нахальное, с пикантным привкусом черной смородины», если верить этикетке. Не из тех вообще-то, какие хранят, но он сохранил. Из ностальгии. Для особого случая. Дня рождения или, может, свадьбы. Но дни рождения он не отмечал; пил красное аргентинское и смотрел старые вестерны. Пять лет назад он выставил меня на стол меж серебряных подсвечников, но ничего не вышло. Тем не менее с девушкой они поладили. Она привела с собой целую армию бутылок — «Дом Периньон», «Столичную» водку, «Парфе Амор»[3] и «Мутон Каде»,[4] бельгийское пиво в бутылках с длинными горлышками, вермут «Нуайи Пра» и «Фрез де Буа».[5] Они тоже говорят, в основном чепуху, металлически щебечут, этакий светский треп на вечеринке. Мы отказались иметь с ними дело. Нас задвинули в дальний угол винного погреба, — нас, трех могикан, за сверкающие шеренги пришельцев, где мы и пребывали пять лет, позабытые. «Шато Шалон»[6] 1958-го, «Сансёр»[7] 1971-го и я. «Шато Шалон», раздосадованный своей ссылкой, притворяется глухим и часто вовсе отказывается говорить. «Зрелое вино исключительного достоинства и стати», — цитирует он во время редких приступов экспансивности. Он любит напоминать нам о своем старшинстве, о долголетии желтых вин Юра. Он крайне высоко ценит свое долголетие, наравне с медовым букетом и уникальным происхождением. «Сансёр», давным-давно превратившаяся в уксус, говорит и того меньше и лишь время от времени тихонько вздыхает о своей утраченной юности.
А потом, за шесть недель до того, как началась эта история, явились другие. Незнакомцы. «Особые». Чужаки, которые заварили всю эту кашу, хотя они тоже, казалось, затерялись за блестящими новыми бутылками. Их было шестеро, у каждого — своя маленькая, от руки написанная этикетка, пробки запаяны свечным воском. У каждой бутылки вокруг горлышка — шнурок своего цвета: красный, как малина, зеленый, как бузина, синий, как ежевика, желтый, как шиповник, черный, как тернослив. Последняя бутылка, обвязанная коричневым шнурком, содержала вино, о каком даже я не слышал. «Особые, 1975», гласила этикетка, буквы выцвели до оттенка старого чая. Но внутри тайны жужжали пчелиным ульем. От них не было никакого спасения, от их шепотков, свиста, смеха. Мы делали вид, что нам плевать на их кривляние. Дилетанты. Ни один из них и не пах виноградом. Они ниже нас, и мы скупились выделить им место в своем кругу. И все же было нечто трогательное в бесстыдстве этих пиратов, лихорадочная кутерьма ароматов и образов, под натиском которой более серьезные марочные вина дрогнули. Конечно, заговорить с ними было ниже нашего достоинства. Но как же мне хотелось! Возможно, нас соединил мой плебейский привкус черной смородины.
Из подвала было слышно все, что происходит в доме. Мы помечали события появлением и исчезновением наших более успешных коллег: двенадцать бутылок пива вечером пятницы и смех в передней; накануне бутылка калифорнийского красного, такого молодого, что почти слышен был запах танина;[8] на прошлой неделе — в день его рождения, как выяснилось, — девичьи полбутылки «Моэт», самый одинокий, самый разоблачительный из объемов, и далекие, ностальгические выстрелы и топот копыт наверху. Джею Макинтошу стукнуло тридцать семь. Обычное дело, но его глаза, глаза цвета индиго, цвета пино нуар,[9] были глазами неловкого, слегка озадаченного человека, который заблудился. Пять лет назад Керри находила это привлекательным. Теперь она потеряла вкус к потерянности. Что-то невероятно раздражало в его пассивности и в упрямстве, крывшемся за ней. Ровно четырнадцать лет назад Джей написал роман «Три лета с Пьяблочным Джо». Разумеется, вы о нем слышали. Роман получил Гонкуровскую премию и был переведен на двадцать языков. Сообщение о премии отметили тремя ящиками «Вдовы Клико» 1976 года, выпитой слишком рано, чтобы оценить ее по достоинству, но Джей всегда был такой: набрасывался на жизнь так, словно она никогда не иссякнет, словно то, что закупорено внутри его, будет жить вечно, успех будет следовать за успехом в вихре праздника без конца.
В те дни никакого винного погреба не было. Мы стояли на каминной полке над его пишущей машинкой — на удачу, говорил он. Закончив книгу, он открыл последнего моего собрата 1962 года и очень медленно его выпил, после чего довольно долго крутил бокал в руках. Потом подошел к каминной полке. Секунду он стоял рядом. Затем усмехнулся и, пошатываясь, вернулся в кресло.
— В другой раз, дорогой, — пообещал он. — Подождем другого раза.
Видите ли, он говорит со мной, как однажды я заговорю с ним. Я его самый старый приятель. Мы понимаем друг друга. Наши судьбы переплетены.
Конечно, другой раз так и не наступил. Телевизионные интервью, газетные статьи и рецензии постепенно сошли на нет. В Голливуде сняли фильм с Кори Фелдманом, перенеся действие на Средний Запад. Прошло девять лет. Джей написал часть романа, озаглавленного «Отважный Кортес», и продал восемь рассказов «Плейбою» — впоследствии они вышли сборником в «Пингвин букс». Литературный мир ждал нового романа Джея Макинтоша — сперва страстно, потом в нетерпеливом любопытстве и наконец, что неизбежно, с равнодушием.
Конечно, он продолжал писать. Семь романов на сегодняшний день, с названиями вроде «Ген И-sus», или «Пси-пташки с Марса», или «Свидание со С. Мэртью», все опубликованные под псевдонимом Джонатан Уайнсеп,[10] добротные коммерческие вещи, позволившие ему продержаться на плаву эти четырнадцать лет. Он купил компьютер, ноутбук «Тошиба», и держал его на коленях, подобно полуфабрикатным обедам, которые сам готовил по вечерам — ныне все чаще, — когда Керри работала допоздна. Он писал рецензии, статьи, рассказы и газетные колонки. Он читал лекции начинающим сочинителям, вел творческие семинары в университете. У него так много дел, шутил он, что едва хватает времени писать самому, — неубедительно смеялся над собой, писателем, который никогда не пишет. Керри смотрела на него, поджав губы, когда он об этом разглагольствовал. Познакомьтесь с Керри О'Нил, урожденной Кэтрин Марсден: двадцать восемь лет, короткие светлые волосы и изумительные зеленые глаза, продукт цветных контактных линз, о чем Джей и не подозревал. Журналистка, преуспевшая на телевидении посредством «Форума!» — ночного ток-шоу, где популярные авторы и звезды второй величины обсуждали социальные проблемы современности под авангардный джаз. Пять лет назад Керри, возможно, улыбнулась бы его словам. Однако пять лет назад «Форума!» не было, Керри вела колонку о путешествиях в «Индепендент» и работала над книгой «Шоколад: наблюдения феминистки». Мир был полон возможностей. Книга вышла через два года, на волне интереса СМИ. Керри была фотогеничной, раскупаемой и мейнстримной. В результате у нее взяли множество легковесных интервью. Она снялась для «Мари Клер», «Тэтлера» и «Я!», но быстро уверила себя, что это не вскружило ей голову. У нее был дом в Челси, pied-à-terre[11] в Нью-Йорке, и она подумывала отсосать жир с бедер. Она выросла. Изменилась.
Но для Джея ничего не изменилось. Пять лет назад, выпивая по полбутылки «Смирновской» в день, он казался олицетворением артистического темперамента, обреченным, трагическим героем романа. Он пробуждал в Керри материнский инстинкт. Она собиралась спасти его, вдохновить, а взамен он напишет чудесную книгу, книгу, которая озарит жизни людей, и все это благодаря ей одной.
Но ничего не вышло. Дрянная фантастика — вот что оплачивало счета; дешевые книжки в аляповатых бумажных обложках. Он ни разу не достиг зрелости, озорной мудрости своей первой работы, даже не попытался достигнуть. И несмотря на угрюмые паузы, говорить о взрывном нраве Джея не приходилось. Он никогда не поддавался порыву. Никогда не выказывал злость, никогда не терял контроль. В общении он умом не блистал, не был интригующе груб. Даже его пьянство — единственное, в чем он оставался неумерен, теперь казалось нелепым, подобно человеку, что упорно носит вышедшие из моды фасоны своей юности. Он проводил время за компьютерными играми, слушал старые синглы и смотрел старые фильмы по видео, неизменный в своей незрелости, подобно мелодии, замурованной в дорожке грампластинки. Возможно, она ошибалась, думала Керри. Он не хотел взрослеть. Он не хотел, чтобы его спасали.