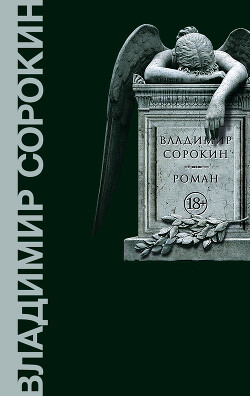Владимир Сорокин
Роман
© Владимир Сорокин, 1994
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2022
© ООО “Издательство ACT”, 2022
Издательство CORPUS ®
Нет на свете ничего прекрасней заросшего русского кладбища на краю небольшой деревни.
Тихое, неприметное издали, лежит оно под густыми купами берёз, теряется в зарослях боярышника, бузины и сивой, годами не кошенной травы, что стоит высокой, до пояса, стеной на месте бывшей здесь некогда ограды.
Случайный прохожий, следующий мимо по неширокой полевой дороге, замечает эту своеобразную изгородь, возведённую матерью-природой взамен развалившейся человеческой, покосившиеся, но всегда гостеприимно распахнутые ворота, кресты, неброско, но явственно мелькающие меж толстых берёзовых стволов, заставляющие невольно замедлить шаг или вовсе остановиться.
Прохожий останавливается, смотрит, затем сходит с пыльной дороги на неприметную стёжку и медленно идёт к кладбищу. Пройдя ворота, он делает несколько шагов и снова останавливается, теперь уже надолго.
Как всё заросло вокруг! Какое запустение и торжество жизни над смертью. Сочная, густая трава покрывает всё. Как красива она, сильна и разнообразна! Здесь зверобой и иван-чай, душица и мята, кукушкин лён и пижмы. Земляника стелется по еле различимым холмикам могил кудрявым ковром, дразня алыми бусинками ягод, папоротник заслоняет трухлявые кресты своими резными листьями, крапива высится, перерастая ржавые ограды.
Трудно разыскать здесь знакомую могилу: иной крест упал, другой сгнил, лишившись перекладин, превратившись в столб, а на третьем вырос мраморно-белый мох, начисто скрыв имя погребённого.
Вот простенькая ограда, завалившаяся под натиском колючих веток шиповника, а рядом – другая, побогаче, проросшая молодой берёзкой и повисшая на ней: растёт юное деревце, тянет за собой ржавые прутья.
Тихо, прохладно под раскидистыми кронами. Полуденное солнце почти не проникает сюда – лишь изредка скользнёт тонким лучом по замшелой крестовине и пропадёт в обильной зелени.
Как хорошо здесь. Как свободно и спокойно дышится. Хочется сесть на траву, прислониться к бугристому стволу старой берёзы и слушать, слушать немолчный шум крон, забывая обо всём бренном, мелочном, недолговечном.
Пахнет земляникой, прелью и лесными цветами. Птицы перекликаются в зелёной выси. Жужжит толстый шмель на бело-розовом цветке клевера. Ни глазу, ни душе не требуется привыкать к кладбищенскому ландшафту – здесь всё как будто существует для молчаливого созерцателя, всё рассчитано на него, дабы помочь ему обрести душевный покой, прояснить мысли, возвысить чувства. Долго сидит он, думая о вечном и преходящем, истинном и ложном, конечном и бесконечном. А над кладбищенскими берёзами тем временем неторопливо проплывают облака, собираясь вдали, у синей стены бора, в грозовую тучу.
За перелеском в неширокой извилистой речушке босоногая деревенская детвора ловит плетёнкой пескарей, так что весёлый плеск и крики иногда долетают до забытых могил. Но ничто не потревожит спящих вечным сном – ни восклицания, ни смех, ни грозный в своих продолжительных раскатах июльский гром, оживающий в недрах надвигающейся тучи. Гремит он, заставляя путника встать, напоминая о земных делах и заботах: пора под крышу, к людям, гроза уж близко.
Уходит путник поспешным шагом, минуя старые ворота, оставляя следы на сочной траве.
Кладбище провожает его, как и встретило: немо, внимательно. Кресты молча смотрят вслед – большие и малые, покосившиеся и прямые, сопревшие и целые. Стоят они бессловесными хранителями покойных, с русской покорностью распростёрши деревянные руки…
Снова гремит гром. Тёмно-лиловая, с палевыми краями туча надвинулась, дыша прохладой. Темнеет. Смолкают голоса птиц. Перелетая с ветки на ветку, спускаются они ниже, порхают меж крестов. Вот одна – серогрудая остроносая овсянка присела на верхнюю перекладину высокого креста. Он поновей остальных – стройный, дубовый, крепко сбитый, не успевший посереть. Да и могила не заросла – молодая травка пробивается из песчаного холмика.
Овсянка чистит клювик, царапая крест. Темнеет настолько, что всё теряется меж белых стволов, смешиваясь в зелёном полумраке, и уже трудно прочесть надпись на кресте. Только крупно вырубленное имя покойного – РОМАН – различимо на большой перекладине, да и оно скоро пропадает в усиливающемся сумраке.
Гремит уже над самой головой, бьют по листьям первые увесистые капли. Слышно, как дети весело бегут домой.
Проходит ещё несколько мгновений сумрачного затишья, и тёплый, благодатный ливень обрушивается на притихшую землю.
Часть первая
I
Поезд дёрнул в тот самый момент, когда Роман опустил свой пухлый, перетянутый ремнями чемодан на мокрый перрон.
Короткий свисток заставил его оглянуться. Зелёные, забрызганные дождём вагоны тронулись со скрипом, усатый проводник, стоящий в проёме двери, помахал рукой:
– Зонтик-то раскройте, а то промокнете!
– Merci! – ответно махнул ему Роман и стал раскрывать большой чёрный китайский зонт с ручкой в форме драконьей головы.
Кругом было всё мокро – узкий деревянный перрон, перила, скамейка, голые, прямые, словно шпаги, ветви тополей с набухшими почками. Набирающий ход поезд снова засвистел, хлопнула железная дверь, замелькали зашторенные окна.
Роман подошёл к перилам, положил руку, затянутую в серую замшевую перчатку, на крашеное облупившееся дерево.
Тёплый дождь, первый дождь в этом году, мелким бисером сыпался на зонт, слабые порывы ветра качали тополя, несли водяную пыль.
За перилами лежало просторное, запаханное с осени поле со следами снега, почти уже сошедшего. Дальше было мелколесье – прозрачное, синеватое, растворяющееся в белёсом утреннем воздухе.
Вокруг не было ни души.
“Значит, не встретил никто, – весело подумал Роман. – Ну и прекрасно! Пойду через лес. Напрямик здесь три версты, это чудное путешествие”.
Сунув руку в карман своего светло-серого пальто, он достал часы. Было четверть восьмого.
– А уже вовсю светло, – проговорил Роман вслух, подхватил чемодан и бодро зашагал к концу перрона, небрежно прикрывшись зонтиком, подставив своё молодое красивое лицо свежему апрельскому воздуху.
Роман был красив той красотой, которая встречается обычно у скандинавов, а в России именуется “немецкой”. Его высокая, худощавая, слегка сутулая фигура с не очень широкими плечами всегда бросалась в глаза из-за чересчур размашистой и быстрой походки, выдающей характер искренний и порывистый. Белокурые волосы, выбивающиеся из-под светло-серой, как и пальто, шляпы, были мягки, волнисты. Черты лица отличались правильностью, если не считать некоторой тяжеловатости подбородка и тонкости губ, в то же время имевших неуловимое детское выражение полуулыбки, несоответствующее глубокому взгляду больших серо-голубых глаз. В свои тридцать два года Роман носил небольшие светлые, всегда аккуратно подстриженные усы и такие же небольшие бакенбарды.
Перрон быстро кончился деревянными ступеньками, и обутые в неглубокие калоши ботинки Романа пошли по мокрой, совсем недавно избавившейся от снега земле. Она была мягкой, словно губка, и испуганно прогибалась под тяжестью этого молодого, полного сил человека. Но не успел Роман пройти и десятка шагов, как справа из-за небольшого пристанционного сарая выехала телега, запряжённая каурой широкогрудой лошадью, ведомой под уздцы таким же широким, коренастым, чернобородым мужиком, узнать которого Роман смог бы и за версту.
От неожиданности он остановился, а чернобородый, лукаво скаля белые крепкие зубы, одной рукой ведя чавкающую копытами лошадь, другой, прихватив кнут, приподнял мокрый лисий треух: