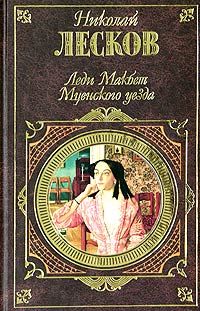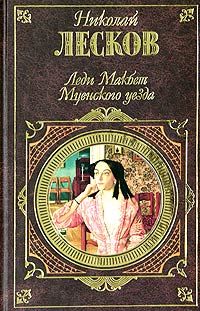– А-а-а… вы целуетесь? Хорошо же! Я скажу мамаше.
Как-то раз за обедом, когда подали вафли, она вдруг захихикала, подмигнула одним глазом и спросила у Толстого:
– Сказать? А?
Лев Николаевич страшно покраснел и зажевал вместо вафли салфетку. Соня вскочила из-за стола и убежала в другую комнату.
Сколько конфет, зеркалец и лент перетаскали ей Лев Николаевич и Соня, чтобы та не рассказывала ничего родителям… Однажды Толстой попросту скосил всю сирень вокруг скамейки. Софья Андреевна вспоминала много лет спустя, что именно с тех самых пор Толстой приобрел привычку косить. Что же до лент и конфет, то их не стало сразу же, как только Толстой получил согласие Сониных родителей на брак.
Даже на черно-белой свадебной фотографии Толстых видно, какое у Тани Берс малиновое ухо.
На выезде из Одоева стоят заледеневшие на осеннем ветру мужчина и женщина с мешками антоновских яблок. Полсотни рублей за ведро. Возле Тулы, у торговок, стоящих на обочине московской трассы, такое же ведро с яблоками стоит в пять раз дороже. В Москве их днем с огнем… Не говоря о пастиле… Нет, не то. Не пастилой едимой жив Одоев. Еще и вареньями разными, повидлом, джемом, конфитюром – и вообще, работает в Одоеве целый консервный завод. И второй, на котором выпускают такое сливочное масло… Ну не подают его к столу Ивана Грозного, не подают. Да и с Грозным у нас тоже, мягко говоря, неувязка… Опять не то. На самом деле я хотел сказать, что в следующем году Одоевскому духовому оркестру будет сто лет, а театру – сто семьдесят. А еще в Одоеве есть детская школа искусств, которой тоже почти сто лет. И музей глиняной игрушки. В какую, спрашивается, Москву, можно ото всего этого уехать? Хоть бы и в надежде протереться к царскому столу. Вот одоевцы и пригождаются там, где родились. Среди этих осенних холмов с гефсиманскими яблоневыми садами и рощами из тонких прощальных белых золотых березовых свечей, посреди синего зеленого малинового неба и уходящей в него дороги.
* * *
Если закутаться в двойной тулуп, обуть высоченные, доходящие до подмышек, валенки с галошами, замотаться с ног до головы толстым, как анаконда, шарфом двойной вязки, выйти за ворота, перевалить через придорожный сугроб, долго идти по полю, оставляя за собой траншею, заполненную обломками снежного наста, зайти в самую середину густого, дерево стоит, непроходимого тумана, внутри него замереть и навострить уши до бритвенной остроты, то можно услышать, как километрах в двух или трех от этого места, в лесу, в берлоге под корнями старой кривой сосны сонная медведица толкает в бок медведя и ворчит: «Ну почему, почему, нельзя ворочаться и сосать лапу хотя бы немного потише? Ведь ты же знаешь – я так чутко сплю…»
* * *
Снежинки падают так медленно, как будто девочка, которая их рисует, время от времени откладывает кисточку в сторону, подпирает щеку разноцветной ладошкой, вздыхает и долго смотрит в окно, прежде чем нарисовать еще одну.
От Одоева до Белева сорок три километра сплошного Левитана. Едешь по картине из левого угла в правый, а в углу, возле позолоченной листьями берез и осин рамы, на высоком берегу Оки стоит Белев. Белев стоит здесь так давно, что и самой Москве может сказать: «Вас здесь не стояло».
В Белевском музее есть помимо обязательных бивней и зубов мамонта еще и его ребро. Раньше, до войны, вместо этих зубов и ребер были коллекции картин, старинного фарфора, гобеленов… В сорок первом, когда танки Гудериана подошли к городу, стали вывозить… партийные архивы, а музей подожгли, чтобы не доставался врагу. Пока горел музей, местные жители… не вернули потом ничего. То есть совсем. В семидесятых годах при пожаре дома в одной из деревень Белевского района за обгоревшей печкой нашли два свернутых в трубочку портрета двух Екатерин – Первой и Великой. Эти портреты писал Павел Васильевич Жуковский – основатель первого Белевского краеведческого музея, носившего его имя. Отец Павла Васильевича – Василий
Андреевич, известный нам всем с шестого класса средней школы, родился в Белевском уезде, таком богатом на бивни и ребра мамонтов, славянофилов братьев Киреевских, белевские кружева, просветителя и ученого Василия Левшина, написавшего самый первый русский научно-фантастический роман о полете на Луну, белевскую яблочную пастилу, которой коломенская пастила недостойна целовать даже упаковку, поэтессу Зинаиду Гиппиус и удивительную белевскую клюкву, растущую нареликтовом болоте, оставшемся после таяния ледника. Сейчас мне скажут: «Знаем-знаем мы эту клюкву. Такой развесистой не видано больше нигде». Неправда ваша. Уникальна белевская реликтовая клюква тем, что, в отличие от обычной ярославской или костромской, или даже архангельской, она бродит как виноград. Палеонтологи еще в конце позапрошлого века описывали найденные на территории уезда скелеты пьяных мамонтов с заплетающимися бивнями. Местные жители, начиная еще с кроманьонцев и вятичей, употребляли забродившую клюкву в качестве ритуального блюда, а уж к тому времени, как в эти места пришли древние славяне, научились курить из нее крепкое вино. Секрет этого напитка строго охранялся местными жителями. Бывало, Жуковский приедет осенью после отпуска из Белева в Петербург и сейчас же к Пушкину со штофом. Пушкин, большой галломан, называл этот напиток «Бель эрель», утверждая, что «Бель» здесь – сокращенное от «Белев». Как Александр Сергеевич ни упрашивал Василия Андреевича поделиться секретом приготовления… А вот секрет знаменитой белевской яблочной пастилы хоть и известен всем, но получается она такой, как надо, только в Белеве. От того ли это, что белевская антоновка самая душистая из всех антоновок, растущих у нас, или от ласковых рук белевских мастериц, которые и сами такие крепкие и сочные антоновки… Теперь-то делают пастилу из одной антоновки, а раньше, в позапрошлом веке, на овощесушильном заводе купца Прохорова, по специальному заказу на слой яблочной пастилы накладывали слой грушевой, на слой грушевой – слой ягодной, на ягодную – снова яблочную и везли продавать в разные города России, Европы и Америки. И на царском столе белевская пастила тоже не выглядела бедной родственницей. Дома, в Белеве, ели ее по праздникам. Вносили белоснежную от сахарной пудры пастилу на тонком фарфоровом блюде с цветочным или ягодным орнаментом, к ней подавали сверкающий огнедышащий баташевский самовар с медалями и кузнецовским чайничком наверху, выходили к чаю земские врачи в пенсне, учителя гимназий в вицмундирах, железнодорожные и заводские инженеры в форменных тужурках, дамы в платьях с ажурными воротничками и манжетами из белевских кружев, и начинались долгие разговоры о том, как ужасно и темно наше настоящее, и горячие споры о том, каким будет светлое будущее… Написавши это, я вдруг вспомнил, что на одном из сайтов, посвященных белевской жизни, я видел статью под названием «Жопа Тульской области находится в Белеве». Там же прочел, что теперь в городе и районе полтора десятка школ, из них дюжина – сельские. Последние понемногу закрывают – нет учеников. Ровно полтора века назад в Белеве и уезде было шестьдесят две школы. Тут, как говорится, пиздец абзац и с новой строки.
Музейный экскурсовод, влюбленная в Белев и его историю женщина, бежавшая сюда из Баку двадцать с лишним лет назад, рассказала, что через Белев проезжал Пушкин. Белевичи заслуженно гордятся фразой Пушкина из «Путешествия в Арзрум»: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел…» Сначала я посмеялся про себя, а потом подумал позавидовал Белеву. Через него проезжал Пушкин. Любого спроси – хотел бы он проезда через себя Пушкина? Да кто б отказался-то? Хорошо бы еще и вместе с Гоголем. Николай Васильевич, кстати, тоже проезжал через Белев. Ну, может, и не через Белев, а рядом, но то, что белевский театр первым из провинциальных театров России поставил «Ревизора» – факт совершенно неоспоримый. Теперь в Белеве не ставят «Ревизора», а зря. При нынешнем положении дел его хоть через день запрещай к постановке. Но вообще, Белев мало изменился за последние несколько сотен лет – те же добротные купеческие каменные дома, те же храмы, та же Ока… только все обветшавшее донельзя. Даже и Ока умудрилась обмелеть. С храмами тоже получилось… Впрочем, так получилось не в одном Белеве, в который я ехал по картине Левитана, а приехал в картину Максимова «Все в прошлом», только с помятым и закопченным самоваром, надтреснутой фарфоровой чашкой с облезшей позолотой, а серебряную ложечку и вовсе кто-то…
Во дворе музея, на большой земляной куче, поросшей травой, увидал я старинный чугунный якорь в человеческий рост, который нашли на территории белевского торгового порта. Это, собственно, все, что от этого порта и осталось. А от старого довоенного музея остались лосиные рога с начищенной медной табличкой под ними, на которой выгравировано «Шишкино 1884 г.». Висят на стене в одном из залов напротив чучел ржанки и дрозда.