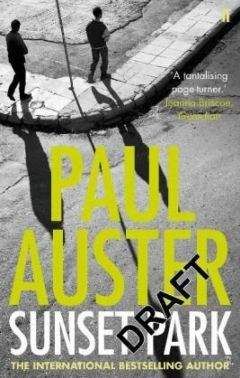Но никаких сожалений, добавил он быстро. Никакой жалости или копания в прошлом. Его семейная жизнь с Мэри-Ли не состоялась, но это не означает, что все было неудачно. Время подтвердило, что настоящей целью тех двух лет, проведших с ней, была не попытка построить крепкую семью; это было — сделать сына, и, поскольку этот сын был единственным самым важным для него созданием на земле, все разочарования от встречи с ней были нужны — и не просто нужны, абсолютно нужны. Это понятно? Да. В то время мальчик не спрашивал отца о том, что тот говорил ему. Его отец улыбнулся, затем обнял его за плечо, прижал его к груди и поцеловал в голову. Ты мое сокровище, сказал он. Никогда не забудь этого.
Это было лишь однажды, когда они так говорили о матери. До того и после того разговора, состоявшегося четырнадцать лет тому назад, были лишь рутинные приготовления — условленные по времени телефонные звонки, покупка авиабилетов до Калифорнии, напоминания послать карточку в честь ее дня рождения, расчеты, чтобы его школьные каникулы не совпали с ее работой. Она могла исчезнуть из жизни его отца, но в его жизни она оставалась. С самого начала, тогда, у него были две матери. Его настоящая мать Уилла, которая его не рожала, и мать-по-рождению Мэри-Ли, которая исполняла роль экзотической незнакомки. Те прошлые года уже не существуют, но, возвращаясь к временам, когда ему была пять-шесть лет, он помнит, как летел через всю страну на встречу с ней — ребенок без сопровождающих под наблюдением стюардесс и летчиков, сидя в пилотной кабине перед взлетом, сладкие напитки, которые почти что не разрешались в их доме, огромный дом на холмах возле Лос Анджелеса с колибри в саду, красные и лиловые цветы, и мимозы, прохладная ночь после теплого, залитого солнцем дня. Его мать была невозможна красива тогда — элегантная очаровательная блондинка, которую сравнивали с Карролл Бэйкер и Тьюсдэй Уэлд, но более талантливее их, более разумная в выборе ролей; и видя, как он растет, для нее становилось явным, что у нее больше не будет детей, и от того она стала называть его маленьким принцем, ее драгоценным ангелом; и тот же мальчик, который был сокровищем для отца, стал и драгоценностью для матери.
Она никогда точно не знала, как вести себя с ним. Она искренне хотела дружеских отношений, полагал он, но не знала, как их наладить, как могла это сделать Уилла, и потому он редко чувствовал себя близким с ней. За один день, за один час она могла превратиться из полной кипучей энергией в погруженную в себя, из приветливой и игривой в отстраненную, полную холодного молчания. Он научился быть настороже с ней, быть готовым к непредсказуемым переменам, чтобы наслаждаться теми хорошими моментами, пока они были, и не надеяться, что они будут долго длиться. Когда он приезжал к ней, она, обычно, находилась между ролями, отчего атмосфера в доме становилась еще более экзальтированной. Телефон начинал звонить рано утром; и она говорила с ее агентом, с продюсером, с режиссером, со знакомыми актерами или принимала или отвергала приглашения на интервью и фотосъемки, появление на телевидении, на презентацию наград, и ко всему прочему — где ужинали прошлой ночью, на какую вечеринку отправиться на следующей неделе, кто-то сказал что-то о ком-то. Было всегда спокойнее, когда Флаэрти был дома. Ее муж помогал смягчать острые углы и контролировал ее ночные возлияния (она часто становилась неуправляемой, когда он работал), и потому что у него тоже был свой ребенок от предыдущего брака, приемный отец лучше понимал ребенка, чем его мать. У приемного отца была дочь Марги, Магги — он точно не помнит сейчас — девочка с веснушками и пухлыми коленками; и они иногда играли вместе в саду, поливая друг друга водой из шланга или представляя воображаемые чайные вечеринки, навроде той с Сумасшедшим Шляпником из Алисы в Стране Чудес. Сколько ему было тогда лет? Шесть? Семь? Когда ему было восемь или девять, Флаэрти, англичанин от костей до мозга, совершенно безразличный к бейсболу, вызвался отвезти их однажды на игру Доджерс с ньюйоркскими Метс. Он был очень дружелюбный, старина Флаэрти, человек многих достоинств, но, когда Майлс вернулся в Калифорнию через шесть месяцев, Флаэрти уже не было в доме, и его мать занималась вторым разводом. Ее нового мужчину звали Саймон Корнголд, продюсер недорогих фильмов, независимых от Голливуда; и, вопреки всем вычислениям, базирующимся на ее семейной жизни с его отцом и Дугласом Флаэрти, Саймон Корнголд остается ее мужем и по сей день после семнадцати лет брака.
Когда ему было двенадцать лет, она зашла в его комнату и попросила его снять одежду. Она хотела видеть, как он развивается, сказала она, и он беспрекословно подчинился ей обнажившись, зная, что отказать ей он не смог бы ни за что. Она был его матерью, и, как бы не было ему страшно или стыдно стоять голым перед ней, она имела право видеть тело сына. Она быстро разглядела его, сказала, чтобы он повернулся кругом, и потом, бросив внимательный взгляд на его гениталии, она добавила: Многообещающе, Майлс, но все еще рано.
Когда ему исполнилось тринадцать лет, в год внезапных изменений его внутреннего и внешнего состояния, она вновь спросила его об этом же. Он сидел у бассейна в этот раз, одетый лишь в купальный костюм, и, хоть в этот раз он был более нервный и напряженный, чем в прошлом году, он встал, скрутил с себя плавки и показал ей то, что она хотела увидеть. Его мать улыбнулась и сказала: Этот малыш уже не малыш, да? Берегитесь, девушки. Майлс Хеллер здесь.
Когда ему стало четырнадцать, он просто отрезал — нет. Она посмотрела на него с каким-то разочарованием, показалось ему, но настаивать не стала. Тебе решать, мальчик, сказала она, и затем вышла из комнаты.
Когда ему исполнилось пятнадцать лет, она и Корнголд решили провести вечеринку в их доме — огромную шумную вечеринку с сотней гостей — и, хоть у большинства приглашенных были знакомые лица актеров и актрис, виденных им в кино и на телевидении, лица известных и неплохих актеров, которые когда-то растрогали или рассмешили его, ему было трудно вынести шум, звучание всех болтающих между собою голосов; и после того, как он провел с ними около часа, он не выдержал и убежал по лестнице наверх в свою комнату и прилег там с книгой, с его книгой в то время, какой бы она и ни оказалась; и он помнит, как он думал тогда, что лучше бы провел весь вечер с писателем этой книги, чем с громогласной толпой внизу. После пятнадцати-двадцати минут его мать ворвалась в его комнату с бокалом в руке — она выглядела и сердитой и немного подавленной. Что ты тут делаешь? Ты разве не знаешь, что происходит внизу, и как ты можешь просто уйти посередине всего? Такой-то и такая-то были внизу, и такой-то и такой-то были внизу, и такая-то и такая-то были внизу, и кто дал ему право оскорблять их уходом наверх, чтобы читать дурацкую книгу? Он пробовал объяснить ей, что чувствовал себя неважно, что у него заболела голова, и какая разница от того, если бы он не был в настроении болтаться внизу и трепать языком с этими взрослыми? Ты совсем как твой отец, сказала она, становишься все более и более раздражительным. Протухшей кислятиной. А когда-то ты был таким забавным малышом, Майлс. А сейчас ты стал какой-то таблеткой. По непонятной причине ему показалось смешным слово таблетка. Или это был вид его матери, стоявшей с бокалом водки и тоника, что развеселил его, и то, что сконфуженная и гневная мать пыталась обидеть его словами кислятина и таблетка; и внезапно он начал смеяться. Что тут смешного? спросила она. Я не знаю, ответил он, я просто не могу остановиться. Вчера я еще был твоей драгоценностью, а сегодня я — таблетка. Сказать тебе по правде, я — ни то и ни другое. В то же самое мгновение, самое лучшее мгновение с его матерью, ее выражение лица сменилось с гневного на мирное, с одного на другое — в одно мгновение, и внезапно она тоже засмеялась. Да чтоб меня, сказала она. Я веду себя как настоящая стерва, правда?
Когда ему стало семнадцать, она пообещала ему, что приедет в Нью Йорк на его школьный выпускной вечер, но так и не приехала. Забавно, но он не рассердился из-за этого на нее. После смерти Бобби вещи, когда-то бывшие важными для него, стали совсем ненужными. Он решил, что она забыла. Забыть — это не грех, это просто человеческая ошибка. В следующий раз, когда она увиделась с ним, она извинилась даже раньше того, как он смог вспомнить об этом сам; о чем он, в общем-то, и не собирался ей говорить в любом случае.
Его поездки в Калифорнию стали гораздо реже. Теперь он был в колледже, и в течение трех лет, проведенных им в Браун, он съездил к ней только два раза. Конечно, были и другие встречи — обеды и ужины в ньюйоркских ресторанах, несколько продолжительных телефонных разговоров (всегда по ее инициативе) и совместно проведенные выходные в Провиденс, где с ними был и Корнголд, чьим десятилетием непоколебимой лояльности ей можно было только восхищаться. По-своему Корнголд напоминал ему отца. Не внешним видом или разговором или походкой, а своей работой — выпускать недорогие, стоящие фильмы в мире производства мега-супер-мусора — точно как и его отец пытался выпускать стоящие книги в мире сиюминутных новинок и невесомых пустышек. Его мать выглядела еще хорошо в свои сорок лет, да и она сама, похоже, была более довольна собой, чем в ее ранние годы — меньше вовлечена в интриги вокруг нее, более открыта окружающим. Во время того же уикэнда в Провиденс она спросила его, что он думает делать после школы. Он не знал, ответил он. Один день он был убежден, что станет доктором, на другой день он склонялся к фотографии, а на следующий день после всего он планировал стать преподавателем. Не писателем и не издателем? спросила она. Нет, не похоже, сказал он. Ему нравилось читать книги, но не было никакого интереса в их создании.