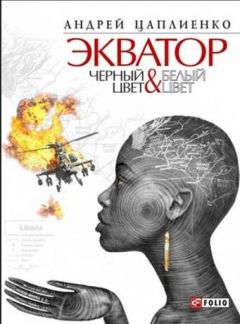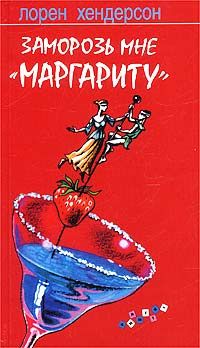Сегодня мы ездили с Лёликом в Дом ветеранов сцены.
Пока мы ехали к его дому, я сидел на переднем сиденье рядом с Сэмом и малодушно радовался, что на улицах пробки и можно быть с Сэмом так долго.
— Тебе не жалко, что ты уедешь, а родители останутся тут? — Мне давно хотелось спросить Сэма об этом. Я знал, что они почти не видятся.
Когда-то я случайно услышал, как Сэм говорит Лёлику: «Отец как узнал, сначала кричал. Я до сих пор помню его лицо. Потом сказал — не садись с нами за один стол. Потом велел взять свою тарелку, чашку и вилку с ножом и мыть их самому, „чтобы не перезаразить всех“. Потом вообще стал делать вид, что меня нет. А потом я ушел из дома.
Мама? Не хочет расстраивать отца. Я ей в общем-то, наверное, и не нужен. Такой».
Тогда мне казалось, что я подслушал — хотя и не старался — что-то совсем запретное, что мне знать не полагалось. Ведь я никогда не заговаривал об этом — а сам Сэм ничего не рассказывал мне про родителей.
Сэм долго-долго молчал, смотрел куда-то вперед, напряженно, хотя мы не ехали, а стояли на светофоре. Смуглые ладони лежали на руле неподвижно, будто каменные, и только указательный палец чуть заметно отбивал на темно-синей матовой оплетке одному Сэму слышимый ритм.
— У них нет сына — вот так они говорят, — сказал он вдруг. — А вот Лёлик — это другое. Я не знаю, как его теперь тут оставить.
Дом Лёлика казался в ноябрьских ранних сумерках огромным акульим зубом — а на самом-то деле он похож на подкову. Мимо мчались машины, подсвеченные фиолетовым окна отражались в Москве-реке, снег во дворе Лёлика стал темным и скучным. Мы ждали в машине у подъезда, и я и не узнал Лёлика сразу. Он теперь казался совсем маленьким, каким-то высохшим. «Ну, поехали?» — спросил он бесцветным голосом, не пошутил, как было раньше, не улыбнулся Сэму.
И ехать в Дом было теперь совсем по-другому. Улицы казались темнее. Только на стоянке около Дома ветеранов, где Сэм снова оставил свою машину, было светло — от свежевыпавшего снега. Снег хрустел и скрипел под ногами, будто подошвы ступали по конфетным оберткам, сумерки, как и в прошлый раз, пахли сладко и остро — древесным дымом, а фиолетовые дорожки убегали куда-то в лес.
Дом выглядел темным и пустым. Даже Ефимовича не было. «Он в больнице», — сухо бросил Лёлик и исчез за дверью с надписью «Администрация».
— Еще месяцок подождать, — вздохнул он потом, садясь в машину.
— Ну слушай, Лёлик, — сказал Сэм.
— Не начинай, — хмуро сказал Лёлик так, что оставалось только замолчать.
Мы проводили Лёлика до квартиры, и когда спускались по лестнице во двор, я вдруг увидел, что глаза Сэма блестят.
— Ты чего, Сэм?
На сцене Сэм может вдруг заплакать. Как по мановению волшебной палочки. С самого детства я смотрел на то, как вдруг затопляются его глаза, как камнем застывает враз лицо, как прочерчивает дорожку на гриме слеза. И всегда это было чудом, необъяснимым и страшноватым.
«Как это у тебя получается, Сэм?» — спрашивал я.
«А никак, — пожимал он плечами, — получается и все тут».
Но только один раз я видел, как Сэм плакал не на с цене.
Это было уже давно — на него с другом напали на улице, недалеко от театра.
«Он просто взял меня за руку».
Сэм пришел в мастерскую к Маме Карло и Лёлику — в синяках и ссадинах.
Я гордился им — потому что их было трое, а он один. И они убежали первыми. Человека с такими мускулами, как у Сэма, нечего и думать, что победишь, считал я. Сашок восхищенно цокала языком.
А Сэм вдруг уронил голову на руки — чтобы никто не увидел его глаз — и заплакал. Я просто догадался, что он плачет, потому что плечи его судорожно вздрагивали.
Мама Карло невозмутимо макала ватную палочку в пузырек с йодом и рисовала на сэмовых плечах атлета с картинки мелкую сеточку.
А Сашок бегала вокруг него и только спрашивала — ну ты что, Сэм, ну ты что. Ты же победил их, победил же ведь, да?..
— Ты чего, Сэм?
— Сволочь я и трус, — неожиданно зло сказал он. — Просто сволочь.
Он посмотрел на меня — словно я был его ровесником, словно я все-все мог понять.
— Я сам списал себя, когда решил уехать, понимаешь? Ведь тебя провожают намного раньше, чем на деле уезжаешь. Все уже привыкли к тому, что тебя нет и ведут себя так, словно это уже не ты. И сил нет все переиграть — и не получится. И еду я туда, где другие сделали так, что меня не будут называть гомиком или бить в подворотне. Кто-то другой — не я. Поэтому я трус. Но я не знаю, как быть дальше. Просто не знаю. Я и Лёлика не могу бросить вот так. И не уехать не могу. Приказ об увольнении подписан — на мои роли уже ввели других. Завтра придет покупатель — смотреть квартиру. И все.
Он помолчал. «Совсем все. Только уехать останется».
— Они, наверное, вспомнили про него только, если бы все куклы разом сломались, — с досадой вдруг бросил Сэм в морозную тишину.
И и эту секунду мне показалось, что где-то в мире включили свет и сразу стало видно все, что пряталось по темным углам.
Если бы. Все. Куклы. Разом. Сломались…
«В жизни — как на сцене: если ничего не делать, то ничего и не происходит», — любит повторять Сэм.
— Ты спятил, Гриня, — не поверила сначала Сашок. — Совсем спятил, — повторила, сосредоточенно тыкая пальцем в точку между большим и указательным.
Этот жест у нее появился недавно и бесил меня до невозможности. «Лечение вроде», — поясняла Сашок, как будто тупое тыканье может вылечить сердце.
Мы сидели на железной лестнице в кукольной комнате — Сашок называет лесенку «насестом». За то, что узкая, железная и крутая, а наверху, словно металлическое гнездо, — площадка для бутафории.
Прямо над нашими головами, на полках — яблоки из папье-маше, связки бубликов, которые, если присмотреться, под краской обмотаны бинтами, деревянные колеса от телег и огромные ложки.
А внизу — куклы, перегородки-щиты, завешенные куклами и масками. И можно рассмотреть темечки королей и королев, и затылки в наклеенных паричках, и острые носы с искусно выточенными крыльями — будто живые. У Лёлика всегда получаются совершенно живые куклы.
Мы с Сашком любим забраться наверх и сидеть — как капитаны кукольного корабля — совсем одни среди них.
— Как же они достали! Все! — сердито сказала Сашок, когда мы только что уселись. И передразнила: «У тебя уже есть ма-а-альчик? А кто тебе нра-а-авится?» Так прям и хочется сказать им какую-нибудь гадость, назло.
Я кивнул. И правда, достали некоторые взрослые. «У тебя есть подружка?»
Как будто бы небо упадет на голову, если — нет. Как будто у меня могут вырасти ослиные уши, если — нет.
Даже в театре — и то какая-нибудь тетя Света или там, актриса Винник пристанет: «А какие девочки тебе в школе нравятся?»
Почему они не спрашивают, к примеру, что я читаю?
Я стараюсь сразу смотаться, делаю вид, что мне ужасно некогда. Ненавижу эти глупые разговоры.
— И что ты им говоришь? — спросил я Сашка.
Та дернула плечом.
— Ну, говорю, отвяньте, я в Шекспира влюбилась тут на днях. Они смеются тогда. А другим, что поглупее, говорю — Габанек. Габанек, конечно, их впечатляет больше — иностранец, небось, думают они.
Что бы ты делала без Габанека, Сашок, думал я. Что бы ты делала без толстощекого дракона-марионетки из чешской сказки? Что бы мы с тобой делали без театра?
— Нет, ты точно спятил, — заладила Сашок, услышав про кукол, — сломать всех?
Я и сам, честно говоря, считал, что спятил. Каждый день я думал об этом, перекатывал на языке, словно карамельку, брошенное Сэмом: «если-бы-все-куклы-разом-сломались».
Ведь тогда Олежеку некуда будет деваться, придется просить Лёлика их чинить — только он знает своих кукол так хорошо, что справится с этим быстро.
Тогда им ничего другого не останется, думал я.
А потом приходил в кукольную комнату и брал за узкие ладошки придворных и охотников, разодетых дам и воздушных фей, за бархатные лапы — лис и мышей, смотрел в кукольные глаза — огромные или хитро прищуренные, искусно прорисованные до крапинок вокруг зрачков, и простые, похожие на обычные пуговицы. И не понимал, как я смогу их сломать — пусть даже и ради Лёлика. Как я смогу — даже для того, чтобы он вернулся, чтобы не уходил навсегда в богадельню, — ломать им руки, подрезать ремешки и нитки, а потом смотреть на обвисшие, поломанные ноги в аккуратных башмаках и западающие, полуоткрытые, будто мертвые, глаза?
Кукла ведь живая — если ее не сломать.
— Можно понять, что у куклы внутри, можно научиться ею работать. Но как ты будешь с нею работать — решает она. Сама, — говорил когда-то Лёлик.
— У тебя не выйдет приспособить куклу под себя. Ее можно сломать, но заставить быть такой, какой хочешь ты — нельзя, — повторял Сэм.