Лицо у него словно каменное. Он сидит, не меняя положения, без единого движения, не отрывая взгляда от окна.
«Ну что же, что он там хочет видеть? Мелькающие деревья? Он же вот-вот сойдет с поезда, и на этот раз, скорее всего, мы расстанемся навсегда. Неужели он так и не посмотрит в мою сторону?» — лихорадочно продолжаю думать я, чувствуя, как нарастает напряжение.
Наконец, когда объявили станцию Федора и поезд начал сбавлять ход, я отвела от него взгляд и посмотрела в окно. И тут меня обожгло. Мы встретились… глазами… в отражении окна. Так и замерли, глядя друг на друга. Как оказалось, все это время, не отрываясь от окна, он смотрел на меня.
Впервые в жизни я увидела, чтобы у Федора — неожиданно, в тот самый момент, когда пересеклись, благодаря отражению в стекле, наши взгляды — навернулись на глаза слезы.
Он резко поднялся, кивнув на прощанье, быстро пожал Володе руку и вышел в тамбур.
Поезд остановился. Я смотрела в окно, надеясь увидеть Федора на перроне, но так и не увидела.
Больше мы не переписывались и не встречались. Только и остался зарубкой на сердце тот острый, с внезапно навернувшимися на глаза слезами, взгляд в окне.
* * *
Володя в меня верил. И благодаря этой вере я сумела организовать и сделать успешным свой бизнес. Сформировала коллектив, обучив у отечественных и зарубежных мастеров по аранжировке цветов своих сотрудниц, и с ними озеленили больницы, детские сады, предприятия, министерства, банки, резиденции президента, Дворец Республики… С артистами эстрады, оформляя их концерты, объездила полстраны. Почти во всех крупных универмагах Минска открыла цветочные отделы своей фирмы. Легко и естественно, как будто всегда была к этому готова и всего лишь примерила новый костюм или платье, восприняла собственную популярность.
Рядом находился Володя. Словно был и не был. Так я его воспринимала.
Повторюсь, какой бы грубый смысл это ни заключало, что удобную обувь не замечают. А она служит. И ею — пользуются. Любой удобной, комфортной вещью пользуются. А человеком? Тем более, если человек не протестует, не возмущается и не обижается, а принимает твои интересы и твою жизнь как собственные.
Тогда, вернувшись из Подмосковья, несмотря на то, что я и Володя прожили в браке еще около девяти лет, мы, ни единым словом не обговаривая этого и не объясняясь, не позволили больше себе тех отношений, которые связывают мужа и жену в полноценный союз — физической близости. Скорее, инициатива исходила от меня, а Володя, как всегда и во всем, согласился со мной. Но произошло это, как что-то естественное, для нас обоих одинаково назревшее. Мы относились друг к другу так, будто были братом и сестрой. Даже сегодня, спроси кто-нибудь: «Есть ли у тебя брат?» — я прежде вспомню не о родном, я подумаю о Володе.
Я становилась все увереннее в себе и выстраивала свою «лестничку вверх». И, не устояв перед искушением поверить людской хвале, уже не сомневалась в собственной исключительности. А Володя, открыто и искренне восхищаясь мной, сам того не осознавая, потворствовал этому.
Я и Володя… Два человека рядом… Только один из нас жил для себя — им была я, — а другой — для того, кто жил для себя. Две жизни — ради одной. Справедливо ли это?
Шли годы, перелистывая, словно страницу за страницей, дни. Рано или поздно, но в человеке начинает пробуждаться, требовать своего, неважно по каким причинам замолчавшая, затаившаяся до времени природа. Мне было уже больше тридцати, когда, избалованная лестью и вниманием окружавших меня людей, я вдруг почувствовала, что во мне не только все еще жива женщина, но и что эта женщина, обнаружив себя, не желает сопротивляться своей капризной природе и готова переступить через ближнего.
Лавина страстей и моего неукротимого эгоцентризма, пока еще не распознанная внутренним зрением, толкала меня на поступки, о которых потом жалела.
Я позволила взять верх в себе женщине и предложила Володе расстаться. Он и на сей раз уступил мне…
Павел, Федор, Володя… Какой след я оставила в душе каждого? Не машиной ли разрушения прошлась по их судьбам?
Каждого из них я предала. Одного — выйдя замуж за него не по любви, уступив собственному безволию. Другого, наверное, все-таки любя, — подчинившись своей слабохарактерности и трусости.
И Володю… Более десяти лет его присутствие в моей жизни было не только не обременительным, но и позволило почувствовать себя уверенно, не страшиться ударов и засад, которыми так часто угрожают люди и мир. Его, словно спасательный круг, бросила мне в трудный момент судьба.
Где они, те, на самом деле счастливые годы без душевных потрясений, сомнений и угрызений совести? Я еще не знала тогда, в какую муку может превратиться жизнь, если позволишь страстям прорвать плотину привычек, чистой совести и воли, если не устоишь, не убережешь себя от опасного раздвоения на доброе и злое в тебе. И когда из темных подземелий твоей души неожиданно, не позволяя опомниться и все обдумать, поднимутся, вырвутся наружу неведомые ранее желания, и ты, уступив их силе, не в состоянии будешь вернуть их в, пусть теперь и принудительное, заточение, вот тогда и осознаешь, как приговор себе, как окончательное, самое страшное для себя наказание, которое уже не позволит почувствовать себя прежним и успокоиться: «Я предатель».
А после того как Володя, когда я призналась, что мучаюсь чувством вины перед ним, милосердно ответил: «Я благодарен тебе за годы, проведенные с тобой, — это лучшее, что было в моей жизни», — моя боль стала только острее.
Восемь лет после развода он жил один. А теперь приходит со своей гражданской женой к нам с мужем в праздники и на Новый год. Она называет меня сестрой. И я этому рада.
В своей жизни я совершила немало плохого. И мне страшно сознавать, что больше я жила для себя, чем для других. И сегодня, когда за плечами столько поступков, ошибок, пережитых боли и радостей, поняла одно: предавая ближнего, прежде всего ты предаешь себя, потому что, совершив предательство, никогда не сможешь чувствовать себя счастливым.
НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ. МАРЬЯ МОРЕВНА. РАССКАЗ
Свою Аню он отличал от других женщин по цоканью каблуков. Она всегда носила шпильки. И объясняла с жаром:
— Разве это женщины? Мамонты! Бульдозеры! На модных утюгах не идешь, а почву утрамбовываешь. На шпильках — по воздуху летишь.
Она широко растопыривала руки и от этого действительно становилась похожей на птицу.
В молодости цоканье ее каблуков было мягким, осторожным. Ныне же, увы, решительным, как будто она, отодвинув зеленоглазый калькулятор, готовилась к серьезному бухгалтерскому отчету и по старинке щелкала на темных счетах.
В ритме ее походки и сейчас можно было угадать настроение. Вот она взлетает по лестничной клетке: «Цок-цок-цок». Это — мелодия. Значит, все прекрасно — на улице блестит солнце, проткнулись почки на деревьях, и ее начальник, главбух Филимонов, в связи с теплом погрузился в летаргию.
Было и другое цоканье — усталое и раздраженное. Аня, кроме всего прочего, была и природным барометром, чутко реагировала на капризы природы: на улице пасмурнеет, и у нее лицо с припухлыми веками, в теле вялость и сонливость. А если на воле сияет все, ветерок скользит по телу и лепит к ногам юбку, то она летуча, светла, так дробно каблучками прищелкивает, хоть садись и списывай музыку.
Но, несмотря на сбивы в настроении, от нее всегда пахло свежими сосновыми стружками. Запах детства. Дед у Рублева был столяром. Дед дедом, но почему от нее так пахло сосновой смолой? Загадка!
Вот и теперь, когда она нагнулась над кроватью, Рублев с жадностью втянул хвойный воздух, и в голове все полетело. Она склонилась еще ниже, касаясь пальцами подушки:
— Всё в тумбочке. Пей-жуй, Копейкин. У меня — отчеты. Не обессудь. У Филимонова опять полицейский зуд, даже цифры нюхает. В углу яблоки, на нижней полке — пирожки, хавай!
И она сдула с глаз челку, словно челка была тем прилипчивым «главным бухалом» (ее выражение) Павлом Петровичем Филимоновым. Все — была и нету. Каблучки выбивали по длинному коридору полное равнодушие.
Он опять привычно уперся глазами в капельную систему. Кап-кап… Это жизнь скудеет с каждой бисеринкой, жизнь тает, как жидкость в бутылке.
Рядом качнулась медсестра. Почему у нее французское имя Люси? Люси — кровная родня своего главного медицинского инструмента. Лицо Люси никогда ничего не выражало. Хотя нет, однажды он видел Люси за листанием скользкого журнала, насыщенного снимками бройлерных парней и девиц. Девушка за этими страницами побелела еще больше.
Медсестра покрутила барашек на прозрачной пробирке и скользнула глазами по лицу Рублева.
Его-то Аня лучше всех жен, всех женщин и девушек. Врут, что красота глупа. Аня была драгоценным сплавом из ума и красот. Когда они познакомились, Рублев долго не верил в свое счастье. Он никак не мог взять в толк, что в руках его оказался небесный хрусталь, оживленный карими глазами. Сравнение, конечно, не из удачных, ну, хоть какое. Однажды в Доме книги он листал альбом репродукций «Женский портрет XVIII века», и случилось такое, — он даже вздрогнул от неожиданности. И книга шлепнулась. Под названием «Портрет незнакомки» сияли ее глаза. И нос — копия, и — губы. Одежда, естественно, старинная. Его кареглазка, его.
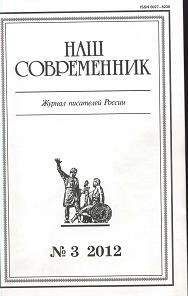


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)

