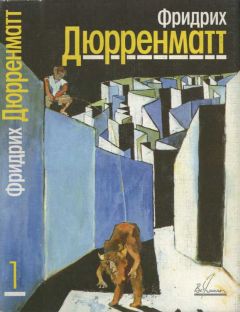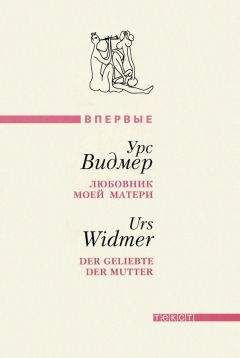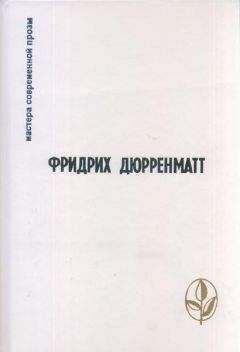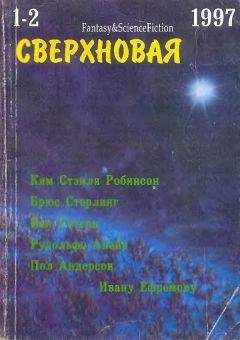То была схватка двух противников, любящих действовать тайно, когда все средства дозволены. Это была долгая и осторожная борьба, фантастическая лишь тем, что шла из-за картины, борьба, которая велась самым тонким и тайным оружием, где каждая атака и каждое отступление тщательно продумывались и каждый шаг мог принести гибель, борьба, проходившая в вечно полутемных конторах, в приемных департаментов и плохо отапливаемых канцеляриях, в комнатах, где говорить осмеливаются только шепотом и где творятся те вещи, о которых до нас нет-нет да и доходят лишь неопределенные слухи, как обо всех делах, вершащихся втайне и не отражающихся на лицах тех, кто участвует в них самым смертельным образом. Да и противники они были равные, если иметь в виду предельную решимость, которая и обусловливает форму этой борьбы, однако у Краснопальтишника было преимущество первого хода, в таких ситуациях обычно решающее. К тому же в этой призрачной дуэли ему выпала роль нападающего, а банкир всегда пребывал в обороне и в невыгодном положении еще и оттого, что движущей силой его действий было тщеславие, не позволявшее ему отступиться от картины и тем самым спастись, а в Краснопальтишнике демоническую тягу к картине рождала темная сила, питаемая самим злом и потому способная действовать неустанно. Много лет тянулся этот поединок крупного промышленника с крупным банком, натравливая друг на друга все новые тресты и вызвав наконец экономическую катастрофу, тянулся как медленная болезнь, неизбежно приводящая к смерти, и долго оставалось неясно, кто победит. Постепенно, однако, гигантский капитал банкира развалился, ибо Краснопальтишник действовал как те шахматисты, которые идут на любые потери ради крошечной выгоды, и, пожертвовав всем своим состоянием, сумел лишить состояния банкира и завладеть картиной.
Какие были у него причины обратиться ко мне, я предположить не решаюсь, но не могу сказать, что его приглашение было для меня неожиданностью, нет, я принял его как что-то неотвратимое.
Это была одна из моих последних прогулок по нашему городу незадолго до того, как мне пришлось покинуть его (при обстоятельствах, о которых расскажу позднее). Я долго шел по длинным улицам предместья, через рабочие кварталы, которые казались мне каким-то первобытным пейзажем — с их странной зубчатостью, глубокими ущельями и геометрическими тенями, резко очерченными на асфальтовых плоскостях. Была поздняя ночь, шатались только, изрыгая дикие песни, какие-то пьяные, и где-то шла драка с полицией. Потом я пришел к его дому, внизу у реки, окруженному прибрежными кустами, небольшими огородами и поднимающимися широким полукругом коробками доходных домов, — это было продолговатое здание, с разными крышами, составленное из четырех, неодинаковой высоты домов, стены между которыми были убраны и окна которых сейчас блестели при свете луны. Главный подъезд был распахнут, что меня встревожило, тем более что мне пришлось перелезть через опрокинутые кадки с растениями, чтобы в него проникнуть, однако внутри я поначалу не нашел беспорядка, которого ждал. Я прошел по огромным комнатам, освещенным только мерцавшей в окнах луной, угадывая на стенах бесценные картины и дыша запахом редких цветов, но везде, в серебристом сумраке, видел приклеенные ко всем предметам ярлыки описи. Пробираясь на ощупь дальше — электричество было отключено, и я напрасно щелкал выключателями, — я понял сущность лабиринта, скрывавшего в своих внутренностях момент величайшего ужаса, момент, который подготавливается постепенным, равномерным усилением страха и наступает тогда, когда мы сразу после резкого поворота натыкаемся на косматого Минотавра. Вскоре, однако, продвигаться стало труднее. Я вышел в те части здания, где были лишь маленькие, зарешеченные оконца, да и находились они высоко; к тому же ковры здесь были скатаны, а мебель сдвинута с мест. В этом возраставшем беспорядке я быстро заблудился. Мне показалось, что я несколько раз возвращался в одну и ту же комнату. Я стал кричать, чтобы обратить на себя внимание, но никто не отзывался, только один раз мне послышался смех вдалеке. Наконец, поднявшись по винтовой лестнице, я выбрался. Я вошел в какое-то чердачное помещение, подобие большого тока, как мне помнится, с балками повсюду, подпиравшими крышу, с разными площадками, которые, поскольку они были разной высоты, соединялись друг с другом закрепленными железными лестницами. Здесь тоже хозяин устроил все удобно и уютно, хотя назначение этого чердака было непонятно. Вдруг где-то в глубине, у брандмауэра, замерцал красный свет. Я с трудом облазил вверх-вниз несколько лестниц. Окон нигде не было видно, так что ничем, кроме огня в камине, помещение не освещалось, а огонь этот был неровный, он то вспыхивал, отчего все чердачные предметы, столбы, балки, мебель, четко выделялись, а по стенам и по крыше, которая была видна изнутри, плясали буйные тени, то почти угасал, оставляя меня где-нибудь на лестнице или на площадке в непроглядной темноте. Я все приближался к огню. Перелезши через беспорядочную кучу упавших книжных полок, я наконец вышел к камину. Возле него сидел старый, изможденный человек в рваной, грязной, мешковатой одежде, небритый, бродяга с виду, с лысой, освещенной пламенем головой, страшное существо, в котором я сразу узнал Краснопальтишника. На коленях, неотрывно на нее глядя, он держал ту самую картину голландца, на ее раме тоже была наклейка. Я поздоровался, и лишь через долгое время он поднял глаза. Сначала мне показалось, что он не узнал меня, да и не было уверенности, что он не пьян, ибо на полу валялось несколько пустых бутылок. Наконец он заговорил скрипучим голосом, но я уже не помню, с чего он начал. Вероятно, он бормотал что-то глумливое насчет своей гибели, утраченных богатств, фабрик, треста или о том, что он должен покинуть свой дом и наш город. Но то, что последовало потом, я понял лишь тогда, когда увидел, как те дети в комнате строили и с таким же усердием разрушали свой карточный дом. Он нетерпеливо похлопал себя по правому бедру худой, старой рукой.
— Вот я сижу в грязной одежде моей молодости, — вскричал он вдруг злобно, — в одежде моей нищеты. Я ненавижу эту одежду и эту нищету, я ненавижу грязь, я вылез из нее, и вот я снова увяз в этой трясине, — и запустил в меня бутылкой, которая, поскольку я увернулся, разбилась где-то сзади о стенку. Он несколько успокоился и посмотрел на меня странным, колючим взглядом. — Можно ли создать что-то из ничего? — спросил он выжидательно, и в ответ я недоверчиво покачал головой. Он грустно кивнул. — Ты прав, малый, — сказал он, — ты прав, — и вырвал картину из рамы и бросил ее в огонь.
— Что вы делаете?! — закричал я в ужасе и прыгнул к камину, чтобы вытащить картину из огня. — Вы сжигаете Босха!
Но он отбросил меня назад с такой силой, какой я от старика не ждал.
— Картина не подлинная, — засмеялся он. — Ты должен был бы это знать, врач это давно уже знает, он всегда все знает давно.
Камин опасно вспыхнул и обдал нас мерцающим багровым светом.
— Вы сами подделали ее, — сказал я тихо, — и потому захотели вернуть ее.
Он посмотрел на меня угрожающе.
— Чтобы из ничего создать что-то, — сказал он. — Деньгами, вырученными за эту картину, я нажил состояние, и если бы эта картина стала снова моей, я сотворил бы что-то из ничего. О, вот что такое точный расчет в этом жалком мире!
Затем он снова уставился в огонь и отупело сидел так в своей рваной, грязной одежде, бедный, как когда-то, серый нищий, неподвижный, потухший.
— Что-то из ничего, — шептал он снова и снова, тихо, едва шевеля бледными губами, не переставая, казалось, тикали какие-то призрачные часы. — Что-то из ничего…
Я печально отвернулся от него, пробрался ощупью через описанный за долги дом и, выйдя на улицу, не заметил, что к дому, откуда я вышел, вдруг со всех сторон бросились люди с широко открытыми от ужаса глазами, и заглянул я в эти глаза, кажется мне, только тогда, когда окно, через которое я много лет спустя смотрел на детей, на их карты, на их руки на круглом столе, совсем замерзло и только оконная рама, охватывавшая пустую плоскость, повисла передо мной в сумерках.
Человек, которому суждено было покорить город, жил среди нас и раньше, хотя мы еще не замечали его. Заметили мы его лишь тогда, когда он стал обращать на себя внимание своим, как нам казалось, смешным поведением, и в те времена он был всеобщим посмешищем. Однако он уже заведовал театром, когда мы заметили его. Смеялись мы над ним не так, как смеемся над людьми, потешающими нас своим простодушием или остроумием, а так, как порой веселимся по поводу какой-нибудь непристойности. Трудно, однако, объяснить, что вызывало смех в начале знакомства с ним, тем более что позднее ему выказывали не только раболепную почтительность — это, как свидетельство страха, нам было еще понятно, — но и искреннее восхищение. Странной была прежде всего его внешность. Он был маленького роста. Тело у него было, казалось, без костей, какое-то слизистое. У него не было ни волос, ни даже бровей. Он передвигался как канатоходец, боящийся потерять равновесие, бесшумными шажками, быстрота которых то и дело менялась. Голос у него был тихий и запинающийся. Вступая с кем-либо в разговор, он всегда направлял взгляд на неодушевленные предметы. Нельзя, однако, точно сказать, когда мы впервые заподозрили в нем зло. Может быть, это случилось тогда, когда на сцене стали заметны некоторые перемены, происшедшие по его милости. Может быть, но надо учитывать, что перемены в эстетике мы вообще-то еще не связываем со злом, когда они впервые обращают на себя наше внимание: мы думали тогда, собственно, скорее о какой-то безвкусице или потешались над его предполагаемой глупостью. Конечно, первые спектакли в нашем театре, им поставленные, еще не выделялись, как те, которым впоследствии суждено было прославиться, однако задатки, намекавшие на его замысел, были налицо. Так, уже в эту раннюю пору его постановки отличались тяготением к маскарадности и была уже в них та абстрактность конструкции, которая позднее так подчеркивалась. Эти черты, правда, не выпирали, но все-таки множились признаки того, что он преследовал определенную цель, которую мы чувствовали, но определить не могли. Он походил, пожалуй, на паука, готовящегося сплести огромную паутину, но действовал он с виду без плана, и эта-то бесплановость как раз, может быть, и подбивала нас смеяться над ним. Конечно, со временем я увидел, что он незаметно лез вперед, после его избрания в парламент в этом убедились все. Злоупотребляя театром, он совращал толпу в таком месте, где никто не ждал опасности. Но опасность эту я осознал лишь тогда, когда перемены на сцене достигли такой степени, которая обнажила тайную цель его поведения. Как в шахматах, погубивший нас ход мы увидели слишком поздно, когда он был уже сделан. Тогда мы стали спрашивать себя, что заставляло публику ходить в его театр. Мы вынуждены были признать, что ответить на этот вопрос непросто. Мы думали о злом инстинкте, толкающем людей в руки их убийц, ибо те перемены выдавали, что он стремился погубить свободу, доказывая ее невозможность, что его искусство было дерзкой атакой на смысл человеческого существования. Эта цель заставляла его исключать какую бы то ни было случайность и все тщательно обосновывать, отчего происходившее на сцене подчинялось железному закону. Особым образом обращался он и с языком, подавляя в нем те элементы, которыми отличаются друг от друга отдельные авторы, искажая тем самым естественный ритм, чтобы добиться однообразного утомительного такта поршней. Актеры двигались как марионетки, а сила, определявшая их действия, не пряталась где-то на заднем плане, а как раз и представала бессмысленным насилием, так что мы, казалось, глядели в машинный зал, где производилось вещество, которое должно уничтожить мир. Упомянуть надо здесь и о том, как он пользовался светом и тенями: они служили ему не для того, чтобы указать на бесконечные пространства и таким образом установить связь с миром веры, а для того, чтобы подчеркнуть конечность сцены: оригинальные кубические блоки ограничивали и задерживали свет, ведь он был мастером абстрактной формы; с помощью скрытых приспособлений избегали и любой полутени, отчего казалось, что действие происходит в тесных тюремных камерах. Он применял только красный и желтый цвета в огненном, режущем глаза сочетании. Самое дьявольское, однако, состояло в том, что каждая перипетия незаметно приобретала другой смысл и жанры смешивались, трагедия превращалась в комедию, а водевиль подделывался под трагедию. Поговаривали тогда и о восстаниях тех несчастных, что готовы были улучшить свою долю насилием, но все же мало кто верил слухам, что движущей силой этих событий был он. На самом же деле театр с самого начала служил ему только средством достичь той власти, которая позднее обернулась разгулом насилия. Мешало нам тогда разобраться во всем этом то обстоятельство, что дело актрисы принимало, на взгляд посвященных, все более угрожающий оборот. Ее судьба особым образом сплелась с судьбой города, и он пытался уничтожить ее. Но когда это его намерение стало ясно, его положение в нашем городе так укрепилось, что женщину эту постигла уготовленная ей жестокая участь, участь, которая грозила всем и отвратить которую были не в силах и те, кто раскусил, в чем суть его обольщений. Эта актриса была побеждена им, потому что презирала власть, олицетворением которой он был. Нельзя сказать, что она была знаменита до того, как он стал руководить театром, однако в театре она занимала положение хоть и невысокое, но прочное и, пользуясь всеобщим уважением, могла заниматься своим искусством без тех уступок, которые должны были делать публике другие, более целеустремленные и занимавшие более важное положение актеры. И знаменательно, что благодаря этому он и уничтожил ее, ибо он умел унижать человека, используя его достоинства.