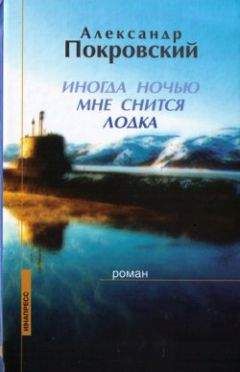Но сейчас он почти машинально подвинул Вове свою порцию, а потом почти с удивлением наблюдал на его лице улыбку и умиротворение.
В другое время он бы, пресытившись, отворотил свой взор от проявления человеческой радости и, наверное, обратил бы внимание на еду, не преминул бы отметить вслух то, что сливовый сок пахнет железной банкой и смазочным маслом, или сказал бы, что ломтики колбасы в последнее время прозрачностью напоминают листики осины, которые почему-то не трепещут на ветру, а оплывающий кусок сливочного масла назвал бы погружающимся в желтые воды печальным дебаркадером, и это не показалось бы ему подозрительно красивым – напротив, он предпочитал когда-то говорить о еде нарочито пышно, экспериментируя, соединяя почти не соединимые слова, прислушиваясь к их звучанию, используя метафоры, может быть, не всегда точные, но произносимые всегда насмешливо, с веселыми гримасами.
Но теперь это не занимало его. Он был занят другим.
Казалось, он пытается рассмотреть вблизи причудливые формы будущей мысли, перенесенные с окраин его ума в центр созерцания. Такой особенной мысли, не получившей пока воплощения в словах, как созвездие капелек жира в тарелке супа, странным образом вдруг ожившие и кружащиеся, чуть ли не пританцовывающие, следить за которыми было забавно, но которые ускользнули бы, словно рой неуловимой мошкары, прояви он в этом деле чуть больше упорства и сосредоточенности, задолго до того, как ум его смог бы приступить к более тщательному анализу фигур этого элементарного и вместе с тем изощренного движения.
Но вот его усилия осмыслить что-то невыразимое ослабели, и сейчас же, может быть, из-за этого размягчения откуда-то всплыло воспоминание, как в прошлом походе вот так же за столом он сидел напротив штурмана, прикомандированного из другого экипажа, – неулыбчивого человека, за все время не проронившего ни единого слова.
«Слушай, как тебя зовут?» – спросил он его уже в самом конце похода.
«Меня зовут Боря». – «Спасибо тебе, Боря, – сказал он и неожиданно высунул длинный язык: – Ме-ме!»
И тотчас же между ними исчезла прозрачная стена – они дружно расхохотались.
Это было событие, при воспоминании о котором он и теперь не мог сдержать улыбку.
Именно событие. Какое верное слово.
Этого слова, казалось, давно уже ждал его ум, и как только оно отыскалось, к нему пришло радостное успокоение, как будто всплыла необходимая деталь, восстанавливающая логику сновидения.
Событие!
Может быть, этого жаждал и командир, назначая очередной жертве бритье бороды, да и сам он ради этого слова, наверное, прикармливал Вову.
И еще ему вспомнилось письмо однокашника.
Он получил его перед самым отходом. Того перевели с кораблей в училище командиром роты курсантов, и он от радости сошел с ума: развел на подоконниках казармы разные растения, рассаживал их, пересаживал, приютил кошку Маркизу, завел аквариум с рыбками и шпонцерными лягушками.
«Представляешь, – писал он – оказывается, шпонцерная лягушка ест сухой корм для рыбок, она запихивает его в рот обеими лапками. А у Маркизы будут котята. Из соседних рот уже приходили, хотят взять, когда родятся».
Да, он бы тоже завел себе там, на земле, что-нибудь такое, что можно сажать, пересаживать, с нетерпеньем дожидаться цветения, и то, что можно гладить по шерстке, без конца ее перебирая, – завел бы то, на что можно употребить тот огромнейший груз нежности, который почему-то не растрачивается на людей.
Люди не умеют делиться нежностью. Вернее, они хотели бы, но, похоже, они уверены в том, что они ничего не получат взамен и останутся без всего, отдав это чувство.
* * *
Они поссорились с Петром осенью.
Да, да, это был самый нижний, придонный слой времени года, когда тяжесть плохой погоды поглощает все твое раздражение, потому что ее все равно не пересилить.
Этому сумеречному времени подошли бы чаепития в теплой комнате, непременно с блюдцами, с тренькающим звуком уютных чашек, с вареньем из крыжовника, сироп которого хитроумнейшим образом осветляют, отделив его от ягод, а потом возвращают их ему, и они плотно усаживаются в банке, словно какие-то важные зеленые рыбки; а широкая хрустальная розетка, в которой они находят временный приют, напоминает акваторию залива, плотно усеянную притопленными бочонками.
В это время капли дождя оставляют на стекле следы, будто стайка улиток, вперегонки ползущих по огромнейшему прозрачному листу; некоторые из них замедляют движение и останавливаются, словно раздумывают, перекусить им здесь или отправиться далее, но потом они неожиданно для самих себя соскальзывают вниз, словно на салазках, и исчезают, оставляя живые блестящие полосы.
И тут он отметил, что, думая о чем-то уютном, он все время находит морские эпитеты, что он словно отравлен ими…
Он поймал себя на том, что никак не может вспомнить подробности той давней ссоры.
Не помнит, с чего все тогда началось, какие там были причины, какие говорились слова.
Он видел, как все это от него ускользает, он долго не мог понять, на что это похоже – слова были элементарны, как шум листвы, но, увы, как и он, невоспроизводимы…
Это все случилось из-за его собственной склонности так упорно сопротивлялась всему ранящему, даже незначительной досаде, которую он испытывал, и всякому переживаемому им огорчению, сетованию на собственную непоследовательность, на детскую слабость. Наверное, так же поступает мать, отвлекающая младенца, забирающая у него острую вещицу, когда она подкладывает взамен нее старого испытанного медвежонка с серыми плешинками на боку, чтобы ребенок нашел у медвежонка знакомые черты, лопнувшие швы, и сунул палец в эти привычные раны, а ту вещицу – она незаметно отодвинет подальше; но эта хитрость не всегда удается матери, и когда малыш вновь и вновь нетерпеливо тянется к тому, что его волнует, она сдается и дает ему потрогать это, но только той стороной, которая менее всего опасна и вряд ли способна причинить боль…
А слова – ну кто же верит словам? Одинаковые у всех людей, они все равно будут разными, другое дело взор и та влага, что скапливается у нижнего века – именно она и отвечает за искренность.
Кажется все началось с того, как он, там на пирсе, повинуясь внезапному порыву, вдруг обнял Петра, прижался к его груди и будто услышал в ней стук – там явственно трудились два молоточка, что ударяли в одно и то же место: сначала один, тот, что поболее, а затем и второй, поменьше – тук! тук! – тук! тук!
И было нечто невероятное в этом звуке, в самих тех ударах; а возможно, вовсе и не в ударах, а в паузах между ними – какая-то явная отзывчивость, пронзившая его тело как бесцветная рыболовная леска.
Что-то было в этом жалобное, а возможно, и жалкое, как в трепетаньях новорожденного, которые всегда хочется пресечь, остановить, потому что они невыносимы своей непредсказуемостью, потому что кажется, что они у него последние и нет никакой надежды на повторение, и тогда невольно тянет прижаться лицом сильнее в надежде, что так из этого тела никогда не уйдет жизнь.
О чем это он? О младенце? О Петре? А может быть, о себе самом?
Он подумал, что выражался неясно, но потом ему показалось, что невольно он и сам того желает, чтобы этой неясностью и неточностью связать всех: и младенца, и Петра, и его бьющееся сердце, и себя – невысокого, кряжистого, но в то же время какого-то очень непрочного, ломкого – прижавшегося тогда к груди Петра щекой.
А может, ему захотелось сейчас такой неясности, потому что он вдруг ощутил желание закрыть, зачеркнуть, захлопнуть эту тему, как тревожащую, а потому и нелюбимую страницу детской книги, которую ему когда-то не хотелось перечитывать как раз потому, что и на самом деле она прекрасна, но всегда неожиданно и сильно ранит.
Эта тема невыносима, как, впрочем, невыносимо и то, что есть своя вселенная катастроф даже в чашке компота, где течением, поднятым утопленницей-ложкой, перебираются истлевшие распашонки ягод малины, и початые пуфики вишен, и смятые икринки красной смородины, а люди пьют все это дождливыми вечерами, поедают, безучастные к этим маленьким трагедиям, а возможно, и не только к этим.
Так чего же можно хотеть от человеческого сердца?
Оно не приемлет мук, вытравливает их неустанно и терзаемо этим еще сильнее, потому как сам процесс такого отторжения тоже мучителен и напоминает сведение с кожи наколки, от которой остаются еще более красноречивое свидетельство; может быть, там было: «Маша, я тебя люблю», – а теперь остекленевшая рана – свидетельство о плоти, о муках, которые и есть плоть, которые и делают эту жизнь плотной, осязаемой и непереносимой. И как ценны, а значит, красноречивы и даже отдохновенны должны быть после этого промежутки и пустота безмыслия.
Но, быть может, с куда большей силой сердце бунтует против переполнившей его нежности, с которой неизвестно как поступать, которая так плотна и густа, почти как вишневый кисель или еще того пуще; но она разливается внутри все же как жидкость, заполняя, захлестывая, и если там для нее нет преград, то она угрожающе стечет в какое-нибудь одно место, перегрузив его. И человека, получившего ее с превеликим избытком, не рассчитанного на ее тяжесть и густоту, зашатает, как и его тогда, и он пойдет, почти падая, не разбирая дороги, и он внезапно словно ослепнет, и так ему легче будет оступиться или даже погибнуть от какой-нибудь ерунды.