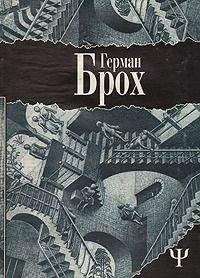Неожиданно пришло известие о смерти его брата. Тот дрался на дуэли с одним польским землевладельцем в Позене и погиб. Если бы это случилось несколькими неделями раньше, то Иоахим, может быть, не был бы так потрясен. За те двадцать лет, что он провел вдали от дома, образ брата приобретал все более расплывчатые очертания, и когда он думал о нем, то перед глазами возникал всего лишь белокурый мальчик в подростковом костюмчике -- до того, как упрятать его в кадетскую школу, их одевали всегда одинаково,-- даже сейчас, должно быть, первое, о чем он подумал, был детский гробик. Но рядом с ним внезапно возникло лицо Гельмуте, мужественное, с белой бородой, то же лицо, которое всплыло у него перед глазами в тот вечер на Егерштрассе, когда его охватил страх, что он больше не сможет воспринять лицо девушки таким, каким оно есть, да, более зоркие глаза охотника спасли его тогда от игры разбушевавшегося воображения, вовлечь в которую его попытался кое-кто другой, и глаза эти, одолженные ему тогда, Гельмут закрыл теперь навеки, может быть, для того, чтобы подарить ему их навсегда! Разве он требовал это от Гельмуте? Он никогда не испытывал чувства вины, и все-таки случилось так, словно он был причиной этой смерти, Примечательно, что Гельмут носил такую же бородку, что и дядя Бернхард, такую же короткую окладистую бородку, не закрывавшую рот, и теперь у Иоахима возникло впечатление, что ответственным за свою кадетскую школу и военную карьеру он всегда считал Гельмуте, а не дядю Бернхарда, который, собственно говоря, был виновником всего этого. Ну, конечно, ведь Гельмут оставался дома, к тому же еще и лицемерил -- это вполне могло быть причиной возникшего чувства, но все это как-то странно переплелось, и еще более странным было то, что он давно уже знал, что в жизни брата нечему было завидовать. Перед его глазами снова возник детский гробик, и в груди начала расти злость на отца. Старику, значит, удалось изгнать из дома и этого сына. То было горькое чувство освобождения, состоящее в том, что он посмел сделать отца ответственным за эту смерть.
Он поехал на похороны. Прибыв в Штольпин, он обнаружил письмо Гельмута: "Я не знаю, выпутаюсь ли я из этой никому не нужной передряги. Конечно, я надеюсь на это, хотя, впрочем, мне почти что все равно. Я приветствую тот факт, что существует что-то похожее на кодекс чести, оставляющий в этой пустой жизни хоть какой-то след возвышенных идей, которым можно следовать. Надеюсь, что ты в своей жизни нашел большие ценности, чем я в своей; иногда я даже завидовал твоей военной карьере; по крайней мере -- это служба чему-то большему, чем самому себе. Я не знаю, что ты обо всем этом думаешь, но пишу тебе с целью предостеречь: не бросал (в случае если меня не станет) военную службу, чтобы взять на себя имение. Да, рано или поздно это придется сделать, но пока жив отец, тебе лучше оставаться вдали от дома, разве что только мать будет сильно нуждаться в тебе. Всего самого хорошего". Следовал целый ряд распоряжений, исполнение которых должно было бы возлагаться на Иоахима, и немного неожиданно в заключение следовало пожелание того, чтобы Иоахим не был столь одиноким, как он.
Родители были как-то странно спокойны, даже мать. Отец приветствовал его пожатием руки и промолвил: "Он погиб, защищая честь, честь своего имени". Затем стал молча расхаживать по комнате своими тяжелыми прямолинейными шагами "Он погиб, защищая честь",-- снова повторил отец и вышел из комнаты.
Гроб с телом Гельмута установили в большом салоне. Уже в прихожей Иоахим ощутил тяжелый запах цветов и венков: слишком тяжелый для детского гробика. Навязчивая и пустая мысль, но Иоахим все же топтался в задрапированной тяжеловесной тканью двери, уставился себе под ноги, никак не решаясь поднять голову. Ему был знаком паркет в этой комнате, знал он и паркетную доску треугольной формы, упиравшуюся в дверной порог, скользя по ней взглядом, как он это делал еще ребенком, пытаясь охватить искусный узор, Иоахим уткнулся в край черного ковра, постеленного под катафалком. Там лежало несколько листочков, упавших с венков. Он был бы рад снова продолжить скольжение взглядом по орнаменту паркета, но ему пришлось сделать несколько шагов и посмотреть на гроб. Это был не детский гробик, и это было хорошо; но он все еще боялся посмотреть своими зрячими глазами в мертвые глаза этого человека, которые, угаснув, должно быть, поглотили в себе лицо мальчика, увлекая, может быть, за собой и брата, которому глаза эти были все-таки подарены, ощущение, что он сам лежит там, было таким сильным, что когда он подошел ближе и понял, что гроб закрыт, то это было для него словно избавление, словно чье-то дружеское участие. Кто-то сказал, что лицо покойника обезображено в результате огнестрельного ранения. Едва ли он слышал сказанное, остановившись возле гроба и положив руки на его крышку. И в той беспомощности, которая охватывает человека перед телом покойника и молчанием смерти и в которой все сущее расплывается и распадается, застывает в разрушенном и развалившемся виде все то. к чему так привык, где воздух становится каким-то разреженным и уже невыносимо трудно дышать, возникло ощущение, что он уже никогда не сможет оставить это место у катафалка, и только приложив неимоверные усилия, он смог вспомнить, что это большой салон и что гроб установлен на том месте, которое обычно занимало фортепьяно, и что за тыльной стороной ковра должен быть кусочек паркета, на который никто еще не ступал; он медленно подошел к завешенной черным стене, потрогал ее и ощутил за темным полотном рамы картин и рамку Железного Креста, и обретенный снова кусочек реальности превратил смерть каким-то странным и напряженным образом в дело обивщика мебели, присовокупив к этому почти что с веселостью тот факт, что Гельмут со своим гробом, украшенным цветами, был внесен в эту комнату как новая мебель, снова сжав непостижимое до размеров постижимого, а мощь достоверности спрессовав с такой силой, что переживания этих минут - а может быть, это были всего лишь секунды? -- вылились в чувство спокойной уверенности. В сопровождении нескольких господ показался отец, и Иоахим услышал, как тот снова и снова повторял: "Он умер, защищая честь". А когда господа ушли, и Иоахим подумал, что остался один, то неожиданно снова услышал: "Он умер, защищая честь", и увидел отца, такого маленького и одинокого, стоявшего у катафалка. Иоахим ощутил себя обязанным подойти к нему. "Пойдем, отец",-- промолвил он и вывел его из комнаты. В дверях отец пристально посмотрел на Иоахима и снова повторил: "Он умер, защищая честь". Отец словно хотел выучить эту фразу наизусть, ожидая того же от Иоахима.
Собралось много людей. Во дворе выстроились местные пожарники. Прибыли также члены союзов бывших фронтовиков со всей округи, они образовали целую роту из цилиндров и черных сюртуков, на многих из них был Железный Крест. Подъезжали кареты соседей, и пока кучерам показывали в тени соответствующие места для экипажей, Иоахим был занят тем, что приветствовал господ и подводил их к гробу Гельмута, чтобы те могли отдать последние почести. Барон фон Баддензен прибыл один, поскольку его дамы все еще находились в Берлине, и, приветствуя его, Иоахиму не удалось подавить в себе с гневом отбрасываемую мысль о том, что этот господин вполне может смотреть теперь на единственного наследника Штольпина как на желаемого зятя, и ему стало стыдно за Элизабет. С фронтона неподвижно свисало полотнище черного знамени, достававшее почти до террасы.
Мать, придерживая под руку отца, спустилась по лестнице. Удивительной была ее стойкость, которая просто поражала. Впрочем, это вполне могла быть всего лишь свойственная ей инертность чувств. Сформировалась траурная процессия, и когда экипажи свернули на деревенскую дорогу, а впереди замаячили очертания церкви, то все были откровенно рады тому, что смогут укрыться в прохладе белых церковных стен от жаркого полуденного солнца, резкие и пыльные лучи которого немилосердно впивались в тяжелое сукно траурных одежд. Пастор выступил с речью, в которой много говорилось о чести, все сказанное было искусно сосредоточено вокруг чести в высшем ее понимании; зазвучал орган, свидетельствующий, что пришло время прощаться с самым дорогим, что у тебя есть... пришло время разлуки, а Иоахим все ждал, когда же прозвучит строфа о том, сбудется ли то, что ему предначертано. Затем он медленно побрел к кладбищу, над воротами которого отсвечивали золотом металлические буквы: "Мир праху твоему", за ним в растянувшемся облаке пыли медленно последовали экипажи, Багровая голубизна раскаленного солнцем неба вздыбилась над сухой рассыпающейся землей, которая ждала, когда ей предадут прах Гельмута, хотя это, собственно говоря, и вовсе не земля была, а семейный склеп, небольшой открытый подвал, скучающий в ожидании нового обитателя. Бросив три небольшие лопатки земли, Иоахим заглянул вовнутрь и, увидев углы гробов дедушки с бабушкой и дяди, подумал: место для отца держат свободным, вероятно, именно по этой причине дядя Бернхард был похоронен в другом месте. Но потом, когда комья осыпающейся вниз земли упали на крышку гроба Гельмута и на каменные плиты склепа, на Иоахима, держащего в руках свою игрушечную лопатку, нахлынули воспоминания о тех детских днях, когда они играли в мягком песке на берегу реки, он снова увидел перед собой брата в облике мальчика, а себя самого -лежащим на катафалке, и ему показалось, что возраст Гельмута да и его смерть вполне могут всего лишь казаться, и эти галлюцинации могли быть вызваны жарой летнего дня. Для своей собственной смерти Иоахим пожелал мягкого дождливого дня, когда небо опускается к земле, чтобы принять душу, которая погружалась бы в него, словно в объятия Руцены. То была грешная мысль, никак не подходившая к данному случаю, но не он один был в ответе за это, а и все другие, кому он сейчас уступал место у двери склепа, и отец тоже был в какой-то мере виноват: ибо вся их вера была лицемерной, хрупкой и припавшей пылью, зависевшей от того, светит на улице солнце или идет дождь. Разве можно не пожелать нашествия полчищ негров, чтобы они смели все это? И восстал Спаситель в новой славе, и вернул людей в Царство свое! Над склепом на мраморном кресте висел Христос, обернутый всего лишь куском сукна, скрывавшим его срам, на голове -- терновый венец, из-под которого стекали бронзовые капли крови. Иоахим тоже ощутил на своей щеке капли: может, это были слезы, которых он не замечал, а может,-- всего лишь следствие изнуряющей жары; он не знал этого и пожимал протягиваемые ему руки. Союзы бывших фронтовиков и пожарники отдали покойному последние почести, проходя военным парадным маршем и резко поворачивая головы налево; сухо щелкали подошвы о кладбищенский гравий, четкой колонной по четыре они промаршировали к воротам кладбища, выполняя короткие отрывистые команды своего командира. Стоя на ступеньках часовни склепа, парад принимали господин фон Пазенов, державший шляпу в руках, Иоахим, приложив руку к шлему, а между ними -- госпожа фон Пазенов. Другие военные, присутствовавшие на церемонии, тоже вытянулись по стойке смирно, приложив руки к шлемам. После этого подъехали экипажи, и Иоахим вместе с родителями сел в повозку, ручки и прочие металлические части которой так же, как и металл лошадиной упряжи, кучер заботливо обтянул крепом; Иоахим обнаружил, что даже кнут был украшен траурной розеткой из крепа. Только теперь мать шлась слезами, и Иоахим не знал, как утешить ее, он снова задумался над тем, почему смертельная пуля поразила Гельмута, а не его, и не мог понять этого. Отец застыл неподвижно на черной коже сидения, которая не была похожа на жесткую потрескавшуюся кожу берлинских дрожек, а напротив, отличалась податливостью; сидения были простеганы и декорированы кожаными пуговицами. Несколько раз возникало впечатление, будто отец хочет что-то сказать, нечто такое, что бы завершало череду мыслей, очевидно, занимавших и державших его всецело в своей власти, ибо он начинал говорить, но затем снова становился неподвижным, лишь безмолвно шевелились его губы; наконец он резко выдохнул из себя: "Они отдали ему последние почести". Отец поднял вверх палец, словно ждал еще чего-то или хотел что-то добавить, и в конце концов опустил руку на колено. Между краем черной перчатки и манжетой с большой черной пуговицей просматривался кусочек кожи с рыжеватыми волосами.