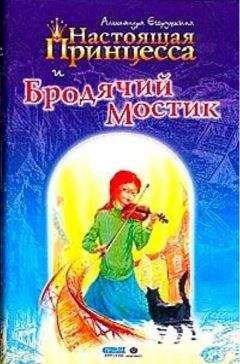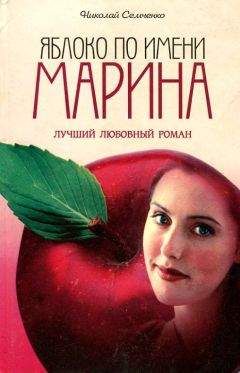Он обвел свою территорию. Скупо улыбнулся, поджав губы.
Отец как-то подобрался по-животному, распрямился, встал во весь рост. Чуть не бросился на него с кулаками. Столкнул пустую чекушку. Выдохнул с низким шипением:
— Ты, блядь, ни дома не топишь, ни в бане посидеть по-людски не даешь! Ах ты крыса! Тыловик хуев! Прилипала!
Прапор шагнул в сторону отца, провел по его телу медленным смеющимся взглядом. Словно липкой широкой кистью. По моему голому, моему позорному… Снизу вверх — от драгоценных ступней, по плавным голеням до сокровенного, выставленного на мировой позор срама. Где и остановил свой липкий взор. Куда он наконец спокойно вперился. Он чуть поднял брови. Я вижу, как он лыбится, покусывая сжатые губы. Господи, я рассмотрел каждый сегмент этой сцены. Она, произойдя, началась снова и повторилась во мне многократно.
— А за “блядь” еще ответите, товарищ майор! — преувеличенно спокойно сказал прапор, не поднимая взора. Он перелетел через паузу как победитель.
— Кругом! — уже орал посрамленный отец.
Он не почувствовал ритма этого поединка. Он проиграл изначально.
Выкрик напряг его, и он предстал мне мраморным. Даже в банном сумраке мне было видно, как по нему расползлись румяные пятна гнева. На мгновение отец стал далматинцем, вставшим на задние лапы. Он мог броситься.
Но прапор ...нко знал себе цену. Он со спокойным презрением вышел. Особенная тайна раскрылась и схлопнулась. Я понял невыразимую муку моего отца. Как гимн.
— Не надо, папа, — сказал я.
— Да, — кивнул ослабший отец.
Он будто сразу заболел.
Это его “да” стоит в моем пищеводе, словно я им навсегда поперхнулся.
И сейчас, когда думаю, как он умирал вдали от меня, то припоминаю именно ту сцену и то невыносимое, притупленное, словно он слишком много употреблял про себя, то самое “да”. Такое, за которым следуют усталость, отупение и ступор.
Утром под кухонным столом у плинтуса моя стопа в мягком носке задела засохший кубик серого мякиша. Я долго берег этот след отцовского инстинкта. Перевозил от жены к жене, а потом спрятал так, что потерял. А это был подарок из его добровольной тюрьмы, переданный на мою злосчастную волю.
Разговор у меня с отцом так ни разу и не заладился с самого моего приезда. Мне остается ревниво пережевывать нашу встречу, рассыпавшуюся на сегменты15.
Ревность насыщала меня, как и ненависть к самому себе за это жалящее меня чувство, выжимающее и изнуряющее меня. Ведь мне было непонятно, на что оно было направлено. К чему я его, почти несуществующего, ревновал. Может быть, к его отсутствию в моей жизни, но уж точно не к скучнейшим людям, подле которых он, смущаясь меня, испытывал великую скуку и голое нескрываемое отчуждение.
К вечеру я застигал самого себя, точнее, свое тело за чтением скудоумной книжки из серии “Военные приключения”. Глаза перескакивали строчки, губы втягивали в себя комнатный эфир, и я понимал, что он, насыщенный прелью сухих грибов, висящих бусами тут и там по всей квартирке, слишком велик мне, проходит насквозь, не задевая, не насыщая, не густея во мне, совершенно бесполезно и безвкусно. Этот образ дурной траты жизни вводил меня в волнение. Заводил, как игрушку. Я начинал дышать полной грудью, мерно и глубоко, не насыщаясь. Мне всего делалось мало. И восстановить нормальный ритм дыханья я был не в силах. Я становился сквозным — через меня бежало время. Бесцветная секунда к секунде, темная минута к минуте, приближая меня к полному исчезновению.
Даже мне, тогдашнему юнцу, казалось, что отец как-то одеревенел. Ведь он действительно стал постыдно, прозрачно несчастлив.
Одни мышки привставали, как маленькие символы победы, когда он подходил к самодельной клетке, где они неутомимо строили гнездышки из бумажной шелухи. Интересно, переживают ли мыши счастье?
У него не задалась военная карьера, он не попал в столичную академию, он был множество раз обманут начальством, посулившим ему бог знает что, и вот он понял, что обречен на прозябание в далеких лесных гарнизонах.
Если только не новая война, откуда можно вернуться победителем. Войны не предвиделось.
И вот он признается мне в своем сумеречном, уже не оскорбляющем его несчастье. Он глупо возится с мышами. Чтобы он возился с близнецами, я ни разу не видел. Тогда я не спрашивал себя, а были ли они его детьми.
Это вездесущее несчастье, это тупое оно, видимо, растлевало моего отца. И он незаметно примирился. С теплым тлением внутри, наверное, под самой ложечкой. Ведь он часто тер себе грудину в том месте, где его нудило средостение.
На его лице я различил поношенную резиновую маску. Она мягко и отечно повторяла его прежние резкие, живые черты.
В единственный свободный от службы день он впервые собрался со мной погулять. Именно со мной, только одним. Все началось со вспышки раздражения, так как новая жена, не зная о его свободном дне, замочила что-то из его гражданского платья, и отцу пришлось надеть форму. Когда это выяснилось, бедный отец чертыхнулся в сторону мышей, будто они были виноваты, и стал стаскивать домашние треники. Взялся за форму. Его перекосило.
— Волглое не люблю. — И он прибавил как особенную язвящую новость: — Ведь знаешь же.
Будто ему надо было что-то мокрое натягивать на себя, прямо из корыта.
— Ой, да утюгом мигом-то все сразу высушу, погодьте полчасика, а? Заодно твои штанишки до стрелок отпарю. А? — жалко затараторила безмерно виноватая женщина.
— Паром провоняю, в обед попаду, — уже совсем зло заключил отец.
И мне до сих пор не ясно — чем же воняет пар? Воняет? Как попадают в обед?
Он ходил по квартире белотелый и поджарый, раздраженно натягивал галифе, чистил сапоги. Настроение его было испорчено. Видно, что толком надеть ему было нечего.
В форму он вдвигался, как улитка, как-то преодолевая липкость — выползал в скользкие завитки. Я чувствовал, что эта одежда для него — ненавистный кожух, в котором он многое претерпевает — печаль, издевательства, тупость и неотзывчивость своего времени.
— Ой, да только утюгом просушу, — лепетала женщина, безмерно виноватая.
— Не трожь, пусть так сохнут, только покорежишь, — говорил ей натужными согласными отец, застегивая слишком тугой крюк на тяжелой шинели: еле сдерживался, чтобы не обрушить на жену гнев.
Он преувеличенно не хлопнул дверью. Выходя, он ее прижал, как герметичный люк. Беззвучно.
На улице он оправлял обшлага. Проверял — мокры ли они. Единственный завершенный его жест, который я могу повторить. Но у меня нет одежды с обшлагами.
Мы дошли до убогого военторга, и он впервые держал всю дорогу меня за руку. Он сам, идя рядом, стянул перчатку, протянул руку и нашел мою вислую ладонь. Мне кажется, его обжег холод моей кисти, и он сдержался, чтобы не поднести ее к губам и не обдуть теплым воздухом из своих легких.
За нами шла кошка, полная деликатной грации, как знак параграфа или интеграла. Она мягко шествовала на почтительном расстоянии, иногда проверяя какие-то известные только ей точки, убеждалась — все ли там по-прежнему, все ли в том же безупречном, ведомом только ей порядке. Я впервые видел, чтобы кошка за кем-то шла.
Я перехватывал мягкий взгляд отца, обращаемый на животное. Он чурался своей тяги к ней. Наверное, так же, как и ко мне.
— Да вот сын на побывку приехал. За гостинцами идем, — говорил он трижды разным людям, встречаемым по дороге.
Одну и ту же фразу. Бесцветным голосом.
Одним и тем же тоном. Но в первый раз он именовал меня “сын”, как примерного рядового, в другой — “сынок”, как полкового любимца, и в третий — “сынишка”, как возлюбленного баловня всей армии, которому все простится. Он говорил эти слова ровно, словно считывая их с листа, чтобы у встречных не возникло сомнения в моей сыновней связи с ним. У меня должны были появиться в их глазах высокое звание и громкий титул. О, если бы они сразу услышали три степени сыновности.
Почему “гостинец”? Ведь гостинец привез я — три литра меда. А может, он хотел побыть в гостях у меня? Дурацкое слово “гостинец”.
Мне показалось, что ему тяжело идти со мной, что ему почему-то необходимо оправдываться в глазах встречных сослуживцев. Но, нарекая меня производными имени “сын”, он словно предъявлял окружающим меня во всем родственном блеске, что-то им непреложное доказывая.