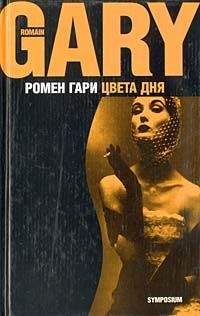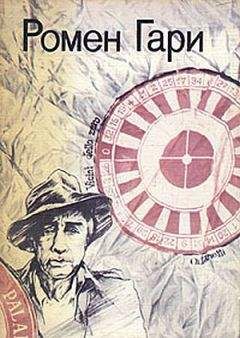— Газеты много говорят о твоем браке, я счастлив, что ты делаешь прекрасную карьеру. Когда вижу вас обоих на всех этих снимках, и после всех этих радост. чудесных вещей, которые рассказывают о полноте вашего счастья, я чувствую, вам самим приходится затем прилагать меньше усилий. Что крайне опасно для обыкновенных людей — к которым принадлежал и я в твоем возрасте, — так это расход воображения, на который им приходится идти, чтобы выдумать свою любовь. Эта ставка так высока, что они всегда стараются возместить ее в виде счастья. Но рекламные агенты неплохо за вас поработали, и вам не придется ничего привносить самим.
— Энн разливала чай с детской, чуть виноватой улыбкой, которая появлялась на ее лице всегда, когда отец так рассказывал ей о своем разбитом сердце. В его отрицании, в его выборе пустоты звучал отголосок страшной силы и человеческого самопожертвования. В сущности, подумала Энн, мой отец — шекспировский персонаж, и это отсутствие страсти, которое он сделал правилом жизни, было не чем иным, как победой самой страсти, знаком того, что она была. Подглядеть за патетическим свидетельством этого — вот зачем она сюда приходила. Он держался очень прямо в своем кресле, попивая чай, — манеры старой девы, прямая японская прядь через весь лоб, взгляд, как бы застывший в одной точке, чтобы не встретиться глазами с Энн. Он был не таким уж дураком. Он знал, что после ухода жены выжил лишь как отголосок своей любви. Его отрицание было комичным, ибо оно лишь подчеркивало силу того, что отрицалось. Впрочем, мы восстаем лишь против того, что держит нас пленниками, и, в конечном счете, жизнь мятежника — это прежде всего жизнь в услужении. Все это он знал, но продолжал упорствовать в своем отрицании крика, потому что таков был его способ кричать. Этим выбором теплого, размеренного, окрашенного в полутона существования, этой философией абажура целая жизнь попросту отдавала дань уважения страсти, вне которой остается лишь раствориться в серости. Слишком чувствительные натуры порой одолевает такая тоска и такой силы идеализм, что вся их жизнь, обращенная к людям, становится лишь обманчивой мимикой; так они изображают своей жизнью отсутствие того, чего желают больше всего на свете, выбирая смешное и эксцентричное, пустоту или даже деградацию с упорством и самоотверженностью, которые, быть может, являются самой великолепной — и часто единственной — данью уважения, которое человек может отдать своему неуловимому солнцу. При взгляде извне эти жизни кажутся непонятными или даже абсурдными; внутри же они обретают смысл редкого призвания, дара ценить каждое мгновение. Вот почему люди, алчущие только Бога, выбирают себе жизни, громким эхом провозглашающие полную ничтожность человеческого приключения, которое они таким, несколько извращенным, способом пытаются узаконить. Гарантье уже двадцать пять лет изображал невозможность жить без любви. По-своему он был фанатиком — плоскостной характер выбранного им существования был ему необходим: он намекал на глубину того, что он потерял, сведя мир к двум измерениям, и все вокруг него громко пело во славу потерянного третьего измерения жизни. Уже двадцать пять лет он обозначал отсутствие одного измерения — измерения любви, — и он изображал это отсутствие даже в самых интимных мелочах своей жизни: его манера одеваться, говорить, курить трубку, писать, а также сухость его голоса и его лица, сухость его губ, — все это восславляло неистовость страсти и молодость сердца — именно то, что они, казалось, отрицали. Чрезвычайно трудно судить о людях по их лицам, которые так послушны, и если физиономии чего-то недостает, то это должно истолковывать не как знак отсутствия, а порой как знак желания, вот почему встречаются люди, которые по этой причине походят на то, чего их лица начисто лишены. Энн, не слушая, смотрела на отца, все усилия которого быть отстранение вежливой куклой вызывали в ней приступ нежности и в то же время желание все кому-то отдать. Но это, естественно, было ребячеством, — ведь стоит ей выйти замуж, как она перестанет об этом и думать. Поколение реалистов, к которому она принадлежала, не получало уже удовольствия от сумрачных состояний души, и ее отец был здесь для того, чтобы преподать ей урок. Он изящно пил чай, глядя на черно-белую фотографию мобиля Кальдера на стене, — он восхищался Кальдером, но только на репродукциях, находя, что его мобили слишком насыщены красками и что в них всегда есть одно лишнее измерение — они производили впечатление присутствия. «В том, что вы воспитали своего ребенка более-менее правильно, — сказал он, — есть свои плюсы: в нужный момент он не приходит к вам за советом. И у вас возникает чувство, что вы были неплохим отцом». Энн улыбнулась ему и едва сдержалась, чтобы не взять его за руку: этот жест был бы ему неприятен. На нем был голубой твидовый костюм, серый в белый горошек галстук-бабочка, а его юные, посреди морщин, глаза под стальной прядью смотрели на нее с серьезностью, которая, казалось, исключала юмор — юмор тоже был болезненным чувством. Позади него возвышалась целая гора книг, отобранных им с особым тщанием, большинство которых — она это знала — являлось не чем иным, как торжеством печатного дела над содержанием. Взгляд с удовольствием скользил по страницам редкой бумаги, где буквы имели своей целью лишь одно — весело играть с полями: типографическое искусство спасало взгляд от чтения, которое могло лишь тягостно нарушить ощущение душевного покоя и эстетического наслаждения читателя. В современной полиграфии и китайской каллиграфии он видел высшие формы искусства и мог часами сидеть в кресле под абажуром, медленно просматривая книгу, где каждое слово тщательно молчало и где — он был уверен — он избежит встречи с бесконечной вульгарностью слова «любовь» и его эпитета, разделяющего этот позор. Это было одно из тех мгновений, когда Энн испытывала к отцу нежность, переворачивавшую ей душу и являвшуюся в куда большей степени женским пониманием, чем дочерней любовью: молчание, которое установилось тогда между ними, прочно связывало их. Он знал: она здесь затем, чтобы смотреть на него, чтобы безо всякой жалости черпать из всегда свежего источника его одиночества новые надежды. Втайне он всегда оправдывал эту благородную жестокость; в ней он узнавал — наивный человек — испанскую кровь своей дочери, наивный, ибо то, что он приписывал таким образом Испании, было не чем иным, как свойством женского сердца.
— Я видел твои последние фильмы, — сказал он, — и нашел в твоей игре много искренности. Похоже, ты вкладываешь много от себя самой в сцены любви. Они, видимо, служат тебе канализационной системой. Вероятно, тут потребность очиститься, изгнать из себя злых духов. — Он набил трубку и зажег ее: он перешел на курение трубки в один особенно тоскливый день, потому что это было самое нехарактерное для тореадора из всего, что ему удалось найти. — Что меня забавляет в твоих фильмах, — сказал он, — так это легкость любви: словно судьбе больше нечем было заняться на земле, как только составлять подобные интриги. Драма, трагедия — самые наивные формы оптимизма и вульгарности; подлинная драма, подлинная трагедия — во всем том, что не наступает. Признаю, что чрезвычайно трудно драматически выразить судьбу, которая отказывает интриге: подлинная трагедия всегда была белой страницей. Но когда я вижу, как в фильме встречаются двое и влюбляются друг в друга, я встаю и выхожу из зала, это сильнее меня, мне все-таки нужно хоть какое-то правдоподобие, логика; это у меня от французов. Хотелось бы, конечно, верить, что есть люди, которые действительно любят друг друга, но тогда они никогда не встречаются. — Он вытряхнул табак из трубки в пепельницу несколькими резкими движениями. — Ужасное влияние этой шекспировской или голливудской эпохи — что одно и то же — заключается в том, что миллионы людей разгуливают по миру, внимательно поглядывая по сторонам, потому что они кого-то ждут, — они ищут друг друга, вместо того чтобы мирно предаваться своим занятиям. Большие любови, если мне будет позволено так выразиться, конечно же, существуют, конечно, — да вот только на манер параллельных линий, которые никогда не встречаются. Навещают друг друга маленькие любови. Я верю, что есть предназначенные друг другу натуры, что каждый мужчина должен встретить в жизни свою предназначенную ему женщину: в этом и вся беда. Предназначенные встречи всегда маленькие встречи, других же не бывает. — Он вынул трубку изо рта, чтобы лучше произносить слова. — Не бывает никогда. — Он сделал легкий жест рукой. — Я признаю, искусством трудно выразить эту драму отсутствия. Одной лишь живописи это порой удается, когда она изображает неспособный принять форму мир, который смутно мечтает о форме, как человек — о любви. В литературе, в театре мы еще ждем того, кто раскроет всю трагедию параллельных линий. В конечном счете, достаточно знать о невозможности любви» чтобы быть абсолютно счастливым. Человек перестал бы тогда жить с этим чувством панического страха в себе, что он состарится, но так и не найдет своей судьбы. Случись такое, мы были бы мудрецами уже в двадцать лет. — Энн показалось все же, что в этой последней фразе она различила легкий ужас. — Но я полагаю, ты пришла навестить меня, потому что выходишь замуж и чтобы я рассказал тебе о твоей матери, — произнес он бесцветным голосом, как если бы он никогда и не переставал о ней говорить. — Она убежала с мексиканским тореадором, и они прожили вместе полгода. После чего он был убит быком. Быком, — повторил он с легкой усмешкой, — как видишь, я тут действительно ни при чем. — Он замолк на мгновенье, принялся созерцать свою трубку. Затем поднял глаза — они были полны нежности; он улыбался. — Скажи мне, Энн. ты представляешь такое? Ты можешь представить себе женщину, бросающую меня ради тореадора? Я говорю это не из тщеславия, напротив. Но как же она могла до такой степени ошибиться? Я хочу сказать: как она могла выйти за меня замуж? — Никогда прежде он не говорил об этом столь прямо — без всякой помощи, без всякого маскарада.