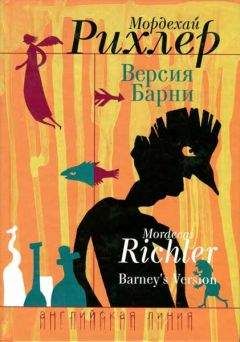Томаса Нейлла Крима, родившегося в 1850 году в Глазго, родители привезли в Монреаль ребенком. В возрасте двадцати двух лет он поступил в Макгилл и через четыре года его окончил — еще один иммигрант пробился наверх: получил диплом врача. «Прекрасный работник, умнейший юноша, — писал о нем его профессор, — однако подвержен странным идеям — чудовищно странным идеям, должен признать; так что я уж и не знаю, до чего они могут его довести».
А довели они Томми для начала до убийства с помощью морфина девушки из Торонто, на которой ее разгневанный папаша заставил его под дулом пистолета жениться. Пока молодая женщина умирала у Крима на руках, он рыдал от напускного горя, а затем сразу сбежал в Иллинойс, где, использовав стрихнин, разделался со стареющим фермером, чтобы не мешал наслаждаться его неугомонной женушкой. Такая необузданность стоила ему десяти лет тюрьмы, выйдя из которой, он уплыл в Лондон. В Лондоне косоглазый доктор напропалую предавался разврату, заодно отравив по меньшей мере шесть filles de joie[43] за год, четыре из которых умерли в муках. Лишь после этого он был пойман и в 1892 году отправлен на виселицу, у подножья которой заявил, что он и есть тот самый Джек-Потрошитель.
Вот так очередной враль-канадец пытался крепко отметиться в Лондоне.
Возможно, это общая тенденция, размышлял Джейк, сидя в выгородке, которая называется скамьей подсудимых, и скромно опуская глаза, как только кто-нибудь из присяжных на него взглядывал. Быть может, приезжающие в Лондон провинциалы из колоний всегда были неравнодушны к нимфам панели?.. Что ж, это очень, очень даже возможно.
А в голове тем временем сложилась песенка:
Я не вор, не растлитель, не пакостный жид,
Не священных основ сокрушитель,
А беспечный любитель со всеми дружить,
И вот на тебе: Джейк-Потрошитель!
6
Не прошло и часа после ухода Джейка, как зазвонил телефон.
— Да, — сказала в трубку миссис Херш, — дома, дома. Что мне сказать, кто просит?
Но не успел звонивший отчитаться, встрепенулась Нэнси:
— Что? Меня?
— Ну не меня же, — слегка насупилась миссис Херш, протягивая трубку.
Нэнси трубку взяла, взамен предоставив свекрови младенца.
— Пожалуйста, снесите его в кухню. Если хотите, можете дать ему бананового пюре.
— Нет, вы такое видали? Вот так вдруг, прямо без борьбы Форт Нокс сдает свой золотой запас! Вся гигиена побоку, и я уже гожусь кормить внука!
— Да, конечно, — нежным голосом заворковала Нэнси. — Ну, только если к пяти я вернусь. Он позвонит, как только в суде объявят перерыв…
— Вы что, куда-то уходите? — потрясенно вопросила миссис Херш.
— Похоже, что да, — ледяным тоном ответствовала Нэнси.
— А если в полдень позвонит адвокат, что я ему скажу?
— Скажете, что я поехала в «Форест-миер-гидро»[44] лечиться клизмами. Миссис Херш, ну в самом деле, должна же я воздухом дышать! Хоть иногда! Совсем-то уж нельзя же!
Нэнси взяла ребенка на руки, покачала, помурлыкала. Уснул. Молли у миссис Херш была занята на кухне — при содействии бабушки безмятежно строила дом из комплекта «лего», пока там не появилась Нэнси, причем уже не в слаксах, а разодетая в пух и прах, что называется, в наряде от Пуччи-шмуччи (не в обиду будь сказано) и пахнущая, как парфюмерная лавка. Ну уж и отхватил мой Янкель себе прынцессу! Та одарила миссис Херш улыбкой. Впрочем, почти незаметной.
— И пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь! Молли пусть будет умницей, пойдет поиграет в саду. У Бена следующее кормление в четыре. Я тысячу раз успею вернуться; а до тех пор он все равно будет спать.
Оставшись в доме одна, миссис Херш на сей раз не стала с пристрастием изучать содержимое огромного — от стены до стены — отделанного кедром платяного шкафа, тем более что все имеющиеся в нем экстравагантные шмотки от Диора и Симонетты, Сен-Лорана и Ланвена уже были ей более или менее известны. Шуровать в бесчисленных ящиках с бельем было лень — там тоже все загадки разгаданы. Экая она у Янкеля цаца — прямо куда там: трусы ей подавай шелковые! Занозу в зад небось и то потребует не иначе как из красного дерева.
Приобняв Молли, миссис Херш велела ей идти в сад, обещав после обеда подарок, а сама поднялась на чердак в кабинет Джейка, где у него, между прочим, маминой фотокарточки нет как нет. Папаши, патентованного идьёта, — этого есть. Ну, Нэнси — понятно. Но ему тут что, на стенах места мало? Боже ж мой, хватило даже для вырезок из немецких журналов: вон какой-то фон Папен, еще и с семейством, фрау Геринг в магазине, какой-то эсэсовский генерал, вот картинка с корявой мазней, будто бы изображающей фельдмаршала Монтгомери. На него место есть. На всех место есть. А на мамочку? А на мамочку-то и нету!
Один шкаф почти пуст. Потому что и седло, и причиндалы для верховой езды, которые у него здесь хранились, все чохом переехали в Олд-Бейли. Теперь это вещественные доказательства обвинения. Зато в другом шкафу, к несказанному ее удивлению, обнаружились консервные банки — множество банок с консервами. Несколько полок, уставленных рядами и штабелями банок. Жестянок, какие бывают с супом, жестянок как с сардинами, жестянок как с тушенкой. Прямо супермаркет какой-то! Самое дикое то, что все без этикеток. Этикетки все до единой содраны. Миссис Херш взяла жестянку, которая, на ее взгляд, могла быть с лососиной или тунцом — что то, что другое, без разницы, — и спустилась в кухню, где, как подсказывал ей горький опыт, везде один сплошной дрек.
В холодильнике бекон и сосиски из «Харродса», какой-нибудь еще, может быть, копченый угорь, а буфет набит консервированными крабами и омарами, мидиями, улитками, бобами со свининой и прочим всевозможным трейфес — и никакой тебе гефилте фиш[45] или кошерного салями. Позвонить в магазин Селфриджа[46] ее высочество конечно же забыла!
А как она набирает номер — о, это надо видеть: крутит диск карандашиком, а то не дай бог сломает ноготь; они у ней длиной чуть не по футу каждый. Ладно хоть должны быть помидорчики и салат. С рыбкой, уж какая там ни окажись, пойдет за милую душу.
Но, открыв немаркированную жестянку, миссис Херш над ней остолбенела. Там оказалась клейкая желеобразная субстанция с решительно отвратным запашком.
Наверное, свинина, подумала она и судорожно отпихнула банку от себя подальше.
7
Когда Джейк познакомился с ней на вечеринке у Люка, Нэнси спросила: «Вы писатель?» — почему-то не включив в вопрос напрашивающееся словечко «тоже».
— Зачем? — ответил он, слегка обескураженно. — Я режиссер.
Ну да, с его стороны это было самонадеянно, и еще как, но все же это лучше, чем то, как он с недавних пор повадился представляться: «Я режиссер. Но не такой, какого вы искали. Такого, как я, и искать бесполезно: надо хватать, пока он в городе».
Дело было в 1959-м, сразу после триумфального приема, который пьеса Люка имела в театре «Ройал Корт», тогда как Джейк в те времена, балансируя в полуподвешенном состоянии, ждал возможности поставить свой первый фильм и чудовищно много пил.
Придя на вечеринку к Люку буквально на следующий день по приезде в Лондон, зажатая в галдящей толпе незнакомцев, Нэнси все время чувствовала на себе тяжелый взгляд темноволосого курчавого мужчины, который ко всему прочему еще и сутулился. Плоховато выбритый, в галстуке с приспущенным узлом и выбившейся из мешковатых штанов рубашкой, Джейкоб Херш норовил затесаться в каждую компанию, к какой бы она ни подошла. Оценивал и изучал высоту и полноту ее грудей, изгиб линии попки, приглядывался, не толстовата ли лодыжка — а то, может, еще какой изъян обнаружится? Стоило ей опуститься на диван и, увлекшись беседой с каким-то актером, закинуть ногу на ногу, не без самолюбования демонстрируя, какие длинные у нее ноги, как он, нисколько этим уже и не удивив ее, сразу сел со стаканом в руке на пол напротив и стал с пугающей скоростью подползать. Явно пытаясь при этом разглядеть то место, где кончается чулок. От ярости покраснев, Нэнси на миг подумала, не задрать ли платье, снять трусы да и кинуть их бесстыжему обалдую прямо в его унылую морду. Но вместо этого лишь сдвинула ноги теснее и одернула юбку. Впрочем, нет — вряд ли он просто озабоченный мелкий поганец; скорее парень чувствует ее недостижимость и всячески себя настраивает искать и находить в ней недостатки. Будучи исключительно привлекательной девушкой, к вниманию таких субъектов она уже привыкла, немало натерпевшись от них в университете. Да, вот кого ей Джейк напоминал: какого-нибудь до оскомины нахватанного, невыносимо начитанного зубрилу-третьекурсника, вообразившего себя интеллектуалом. Бывают такие — знаете? — как правило, почему-то еврейские мальчики, напичканные невнятными, жутко пафосными стихами без знаков препинания и заглавных букв; от соседства с нею они дико возбуждаются, но слишком неловки (да и трусоваты), чтобы подойти и заговорить — а ведь чем черт не шутит, вдруг да и получится назначить свидание! Но где им! Вместо этого они садятся в студенческом буфете за соседний с нею столик и начинают агрессивно перед всеми выделываться. Или громко обсуждать ее нарочитую, по их мнению, холодность. А еще бывает, втиснется такое хамло на лекции рядом с ней и давай слепить блеском вопросов к профессору. Любили они и высмеивать ее, особенно перед девчонками, которым с внешностью повезло меньше, просто на нет исходили от жажды мщения за предполагаемую неприступность. Хотя и приступать-то не пытались: кишка тонка, зато слухи о ее тайных сексуальных похождениях распускали такие оскорбительные, что, бывало, у нее слезы на глаза наворачивались. И не важно, что она предпринимала все мыслимые меры, чтобы не провоцировать, не быть слишком заметной: ходила в мешковатых свитерах, чуть не монашеских юбках и туфлях без каблука. Всячески тихарилась, лишь бы не приваживать тех самых парней, заинтересованности которых другие девицы изо всех сил добивались. Она же добилась только того, что все поняли: Нэнси Крофт не наш человек; ну да, вся из себя, да и фигурка тоже, но — холодная и чужая.