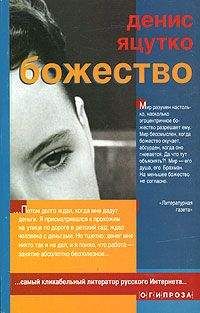Эпидемия влюбляемости началась со Стасика Комаровцева. Собрав после уроков всех мальчиков класса у разваленного домика во дворе школы, от которого сильно пахло сыростью и фекалиями, он торжественно объявил, что «влюбился в Титоренко», и попросил совета, как бы ему объясниться со своей избранницей. Моё предположение, что можно просто подойти и сказать, было отвергнуто немедленно, все зашумели стали обзывать меня дураком, так что я замолчал и стал молча слушать предложения других участников мозгового штурма. Передать от Стасика записку никто не соглашался, так как боялись, что что-нибудь будет понято неправильно, и кто-нибудь, например, сама Таня Титоренко, заподозрит, что влюблённым является именно передающий. Бросать письмо в почтовый ящик Стасик тоже не захотел, опасаясь, что в этом случае оно может попасть в руки таниных родителей. В конце концов, совещание пришло к выводу, что наиболее рациональным решением проблемы будет подложить записку в танину сменную обувь. Напоследок Стасик всех очень просил «ничего не говорить девчонкам». С этого момента его влюблённость стала общим делом и общей тайной мужской половины класса.
После того, как записка была подложена, со Стасика ежедневно стали требовать отчётов о протекании любви, но он не мог ничего нам сообщить, ибо Таня никак на его записку не отреагировала, будто это было не чем-то новым и удивительным в её жизни, а обыденностью, вроде дыхания или уроков. Мальчики негодовали: ситуация требовала развития, статика угнетала, все ощущали свою причастность к этому. Стасику советовали повторить штуку с подмётным письмом, но, помимо собственно объяснения в любви, потребовать свидания. Стасик отказывался, стесняясь слова «свидание», и просил придумать что-нибудь другое. Кто-то предложил выследить Таню Титоренко по дороге из школы, узнать, где она живёт, и заявиться прямо к ней домой, но Стасик отвергал и это предложение, боясь встретиться с таниными родителями.
— Тогда я к ней пойду, — неожиданно заявил молчавший до того Володя Георгиев.
Все повернулись в его сторону.
— Нафига? — спросил у Володи главный хулиган класса Саша Абаканов.
— А я её тоже люблю, — сказал Володя Георгиев, становясь ровнее и распрямляя плечи, — Тоже…
— О! — обрадовался Саша Абаканов неожиданному развитию событий. — Тогда вам махаться надо.
Мальчики возбуждённо загалдели, обсуждая эту свежую интересную идею, а я задумался. Мне вдруг стало интересно, почему сразу два человека выбрали в качестве объекта любви именно Таню Титоренко. Таня была невысокой малопримечательной девочкой со светлыми волосами, вздёрнутым носиком и обилием веснушек на круглом незамысловатом лице. Она совершенно не соответствовала моим представлениям о том, как должна выглядеть ты, о моя Анима, и если то, что ей заинтересовался Стасик, меня не удивило (Стасик был лихой забавный простак), то Володю Георгиева я считал не самым глупым человеком, и его заявление о любви к той же девочке заставило меня задуматься о сущности женской красоты. Стасик и Володя, уступив настоятельным просьбам общественности, подрались. Зрелищно. Стасик дрался, сопровождая пропущенные удары и собственные падения дурацкими шуточками, и эффектно промакивал разбитую губу рукавом белой рубашки, отвечал же редко, размашисто и сокрушительно. Володя дрался с остервенением, вцепляясь в Стасика всеми четырьмя руками, зубами и всем остальным и нанося множественные серии отчаянно неумелых ударов по лицу и животу Стасика. Собравшиеся давали советы. Забавно, что дерущиеся искренне пытались этим советам следовать. Саша Абаканов вертелся в непосредственной близости от дерущихся, иногда проскакивая между ними, когда чей-нибудь кулак был уже в пути к лицу оппонента. Неожиданно он схватил дерущихся за руки, вздёрнул володину руку вверх и провозгласил:
— Всё, Комар, ты проиграл.
И дальше, обращаясь к собравшимся, добавил:
— Георгиев к Титоренко пойдёт: Комар уже в кровянке весь, значит, проиграл.
С лица Стасика сошла сохранявшаяся на протяжении всей драки улыбка.
— Ты чё, Бакан?! Да мне же не больно совсем. Я его ещё прибить могу, — заговорил он.
— Хватит уже, — сказал Саша Абаканов, — Сам же к ней идти ссал. Вот, пусть он и идёт, а ты записку ещё одну напиши и стренку набей.
— А чья ж она теперь будет? Титоренка-то? — Неожиданно вылез с вопросом Дюша Давиденко.
— Да ты мудак, — обозвал его Саша незнакомым мне тогда словом, — Кого сама выберет, того и будет, я откуда знаю…
Я почувствовал, что происходящее в кругу сине-фиолетовых курток одноклассников вдруг перестало меня интересовать, повернулся и пошёл в сторону дома.
— Сверчок! — крикнул мне вслед Саша Абаканов, — Мы же ещё не закончили…
— А мне-то какое до этого всего дело? — спросил я, чуть обернувшись, и побрёл дальше.
Сзади загудели. Сказанная мной фраза повторялась на все лады, круг распадался и его бывшие частички рассасывались во все стороны.
«Почему же они оба выбрали Таню Титоренко?» — думал я. Дома я достал групповую фотографию класса и стал рассматривать эту причину рыцарского турнира. Таня была невысокой плотно сложенной светловолосой девочкой. Её умненькое круглое личико искрилось (sic) веснушками, а в дырочках мочек маленьких аккуратных ушек висели две нелепые золотые серёжки. Стрижена она была «под мальчика» (поймёт ли кто сегодня, что обозначают эти слова? Так, как нынче стригут мальчиков, в те времена стриглись только немногие пловцы и боксёры), в её ученическом дневнике были почти одни пятёрки; получив однажды четвёрку, Таня плакала. Я никогда раньше и не думал о том, красива ли она: я её просто не замечал. При первой попытке решить задачу об отношении Тани к феномену красоты, я немедленно вынес вердикт, гласящий, что Таня некрасива: эти маленькие пухлые ручки, это совершенно круглое лицо, эти соломенные волосы, эти глупые весёлые веснушки на лишённом эмоционального выражения лице… Но… что же тогда… кто же тогда красив… красива в моём понимании? Я почувствовал, что должен немедленно решить, кого из одноклассниц считаю самой красивой. Я рассмотрел фотографию внимательнее, но выбрать не смог. На следующий день Нина Кирилловна объясняла новую тему не для меня: я с первого урока разглядывал девочек, пытаясь определить, что же есть девичья красота в моём понимании. Я выискивал твои черты, моя Анима, в лицах и движениях моих одноклассниц и долго не мог ничего найти, но тут Таня Кирсанова сильно зевнула, выгнув длинную шею на фоне светлого прямоугольника окна. «Багира, — подумал я, — Пантера Багира». И замер в восхищении, по-настоящему затаив дыхание.
Вы видели мультфильм про Маугли-Лягушонка? Не тупое диснеевское убожество, которое вредно показывать детям, а наш родной союзмультфильмовский мультфильм? Вы помните стекающую с дерева плавной чёрной каплей Багиру? Багиру, любующуюся собой и сладко потягивающуюся? Вы помните это воплощение женственности, помните? Таня Кирсанова зевнула — я увидел Багиру. Какие нужны мне были ещё показатели красоты? Я тут же решил, что влюбился, и стал думать, что делать с этим решением дальше. Что делать?
Благодаря Главной Книге Своей Жизни я, в принципе, знал, что делают друг с другом люди, когда любят друг друга, но я знал также, что в нашем нежном возрасте делать этого ещё нельзя, потому что вредно. Но, думал я, мы можем, например, беседовать и, пожалуй, целоваться… Да, а ещё влюблённые пишут стихи и совершают безумные поступки, например, пьют уксус и едят крокодиловое мясо… «Всё это могу и я…» Крокодилового мяса взять было негде, а есть в честь любимой, например, свинину, подвигом не выглядело… Надо будет, придя домой, попробовать уксуса… А ещё дарят цветы и другие бесполезные вещи. Надо будет попробовать… Да. Да.
Уксус мне не понравился — кислятина и кислятина, к тому же — кто мог засвидетельствовать мой подвиг и рассказать о нём даме сердца? Стихи. Надо писать стихи. Не очень хорошо представляя себе, как это делается, я решил учиться у классиков и срочно проштудировал трёхтомник Есенина, десятитомник Пушкина, трёхтомник Луговского и томик Маяковского для нерусских школ (с расставленными на всех словах ударениями). Я читал много, почти всё время (как я узнал позже, это называется «читать запоем»), ночью брал книгу и армейский сигнальный фонарик под подушку. Когда в этом фонарике села батарейка, я стал брать под подушку фонарик-«жучок». «Жучок» невозможно громко жужжал, поэтому я укрывался двумя подушками, одеялом, подтыкал все щели и старался утоплять ручку «жучка» как можно реже, неглубоко и плавно, держа фонарик и глаза у самой бумаги, у самых букв. Банальная и неизбежная фраза: поэзия захватила и закружила мой детский ум, размеренные слоги заставили весь мир восприниматься как вибрацию, полифонию ямбов и хореев, я даже говорить стал как-то ровно, размеренно… Что интересно, ни Пушкин, ни Есенин, ни Горлан-Главарь не произвели на меня такого мощного впечатления, как одна единственная вещь Владимира Луговского — «Человек, который плыл с Одиссеем». Я не читал ещё тогда Гомера, не знал об Одиссее ничего, но эта вещь (баллада?) сделала Одиссея надолго (навсегда?) очень значимым символом моего мира. Одиссея и тех, кто с ним плыл. Кто с ним плыл… Коротко эту вещь можно пересказать поговоркой: «Паны дерутся — у холопьев чубы трещат»… Но какая там была сила…