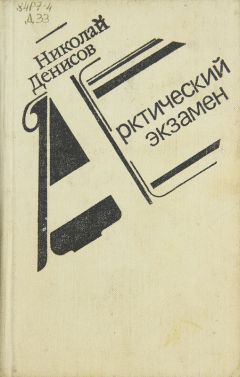Суточное проживание в «канадской» – на фоне пылающих факелов попутного газа! – стоило пять-восемь рублей. Немало по тем временам. Нам, остальным стихотворцам и прозаикам, выделили прохладную обшарпанную двухэтажку под названием «Обь» № 2, где суточная плата в пятикоечном номере была всего 70 копеек с носа.
На утро начальник нашей делегации, заведующий (он называл себя директором) Бюро пропаганды Шумский, непосредственный Володин начальник, потопал в своих высоких валенках с калошами меж крутых сугробов в соседнюю «канадку», чтобы дать указание подчиненному ему сотруднику. Дежурная гостиницы, оглядев живописного, огородного вида, пришельца, разрешила бедному Сереже только постоять на коврике у входа, заявив решительно, что «писатель Нечволода сейчас не принимает».
«Что значит «не принимает?» – решил я тут же испытать судьбу в этой «канадке». Дежурная, на удивление, встретила меня приветливо, только приказала снять обувь и переобуться в войлочные тапочки. Ну, прямо-таки, как в Шереметьевском дворце в Останкино, где расположен известный мемориальный музей. И тут ковровые дорожки, кактусы в горшочках, гирлянды живой зелени по стенам, яркие акварели, чеканка. И главное-тепло!
Постучал в дверь номера. Никакого отклика. Постучал снова – с напором. Дверь сама подалась вовнутрь. Смотрю: большая прихожая – модные кресла, яркие шторы, на журнальном столике непочатая бутылка пятизвездочного коньяка, апельсины, яблоки в вазе, плитки шоколада и – о, боже! – живые пахучие цветы!
Открываю еще одну дверь: большой зал для заседаний, длинные столы, заканчивающиеся Т-образным, «руководящим», шкаф с хрустальными фужерами, множество стульев, внушительных размеров холодильник. И – опять удивление! – теплая, даже жаркая, застекленная лоджия. Ну, конечно, все для солидных людей!
Обошел всё это аккуратно и бережно, вернулся в прихожую, открыл еще несколько дверей в стене: ванная, туалет, опять, блистающая кафелем, ванная! Не знаю, уж какая по счету, наконец, обнаружилась дверь в спальную комнату – в эти номенклатурные покои, где на широченной, орехового дерева кровати, в самом углу, у стенки, обнаруживаю фигурку поэта. Он сладко спал, по-детски свернувшись на непомерном великолепии ложа. «Это который тут государев наместник не принимает?» – возликовал я, разбудив хозяина номера. Он как-то быстро встал, увлекая меня к накрытому столу: «Давай причастимся… Ждал гостей, что-то не пришли».
Еще с неделю мы работали в Нефтеюганске и его вахтовых поселках. К концу командировки Володя перебрался в нашу простецкую «Обь» №2 и бросился к местным знакомым и друзьям, как всегда, занимать «на жизнь» и на обратную дорогу…
Прошли еще годы. В январе 1984 года я оформлял документы в дальний заграничный рейс на владивостокском торговом судне. Владимир Алексеевич, выпустив новый сборник стихов «Наследство» в московском издательстве «Современник» и новоиспеченным членом Союза писателей побывав на Камчатке, где жила когда-то их семья, отец, Алексей Максимович, служил в военной газете, завистливо вздыхал: «Эх, я бы вот тоже хотел попасть в далекое плавание, но медкомиссию мне не пройти, как не прошел когда-то в пограничное училище. Сердце…»
В апреле наш сухогруз стоял на рейде индийского порта Мадрас. С борта мы наблюдали в бинокль, как разгуливают по городу священные коровы, снуют, громко сигналя, автомобили, толчется разноцветная публика. А нам ничего не оставалось, как пережидать эту долгую, семнадцатисуточную, не входившую в планы советского судна, забастовку братьев по классу, портовых грузчиков.
Кончались продукты, пресная вода, вконец истомила постоянная зыбь просторного и раскатистого Бенгальского залива. Для разнообразия мы околачивали с надстроек ржавчину, красили, в свободное время ловили удочками мелких плоских рыбешек. По ночам висели над бортом с острогами, пытаясь добыть на приманку острожного, верткого тунца. Не получалось. Но развлекали приходящие суда под разными флагами да утренние «флотилии» рыбаков-индусов. Они шли далеко в море на своих плотах – полуголые, в набедренных тряпках, под рваными, пиратского черного цвета, парусами. Под вечер, так же напористо, правя кормовыми веслами по течениям, они возвращались к берегам. Проходя возле нашего железного борта, индусы размахивали большими рыбинами, не ведая советских запретительных порядков, предлагали торги…
Как-то вечером пришел ко мне в каюту помполит, то есть первый помощник капитана, подал радиограмму: «Извини, наверное, кто-то из близких… Радисты мне принесли, сами не решились вручить…»
Прочитал короткую радиограмму из Тюмени и в глазах потемнело: не стало Володи Нечволоды… Как узнал впоследствии, он умер в гостинице Нижневартовска от сердечного приступа…
В грусти вспоминался наш милый «общий» Ишим. Я смотрел на карту и с мистическим холодком в груди обнаруживал, что Ишим и Мадрас расположены на одном географическом меридиане, от того становились еще печальней. Может быть, и от понимания того, что та-а-м уж мы больше не встретимся, так и от предчувствия того, что через годы, в 90-е и нулевые, новые хозяева жизни – старательные лесорубы из администрации города! – практически сотрут с лица земли тот уютный и тихий уголок нашей юности.
Вырубят все, что украшало тихий провинциальный уют, начав с преследуемых всюду – старинных тополей. Застроят городок домами и коттеджами лютеранской архитектуры, а в целях «модернизации» и, вероятно, в более глубинных целях борьбы с моджахедами – выкорчуют липы, клены, удивительные тоннели из яблонек. Согласно криминальной обстановке в стране, на каждой яблоньке- дичке могло затаиться по чеченцу-бородачу с мешком гексогена или тротила! Грустная шутка… Но – перекрасят, в ласкающие чей- то взор, в цвета желтой «детской радости» железнодорожный вокзал, имевший в наши дни нежно-небесный колер, уничтожат чугунные оградки, обрамление из художественно подстриженных кустов, голубых елочек. Уберут родничок фонтанчика-журавля, возле которого обычно кипел прилавок с редисками, малосольными огурчиками и парной картошкой, что приносили окрестные тетеньки к поездам, придавая домашность и лиризм сибирскому городку, который невозможно представить «европейским». И надо ли?!
Все это приспеет и скоро.
А в те дни, на море, я написал памяти поэта такие строки:
Там, на родине, умер поэт:
Принесли телеграмму радисты.
Среди рапортов, сводок, газет
Извлекли из эфирного свиста.
Был он, как говорится, в пути,
При таланте и сходной оплате.
Подошел к тридцати девяти,
Оглянулся на Пушкина: «Хватит!»
Жизнь певца из зазубрин и ран,
Что там завтра – орёл или решка?
Ну махнул бы за мной в океан,
А с ответственным делом помешкал.
Шли бок о бок, по духу близки,
Знали вместе паденья, удачи…
Телеграмма – всего полстроки,
Не поправишь…Читаю и плачу.
СОСТЯЗАНИЕ АКЫНОВ НА САМОТЛОРЕ
С поэтом Анатолием Кукарским мы вместе, точнее, одновременно писали свои поэмы о гремевшем и прославленном нефтяном месторождении Самотлор. Писали о его людях-открывателях, нефтедобытчиках и строителях. Это был, как тогда называли, социальный заказ. И мы на него согласились, несмотря на отдельные ухмылки либеральной братии, ревнителей «чистого искусства»: вот, мол, «заказуху» выполняют…
Благословил нас Константин Лагунов: действуйте смелее!
Мне, хоть и бывавшему на Тюменском Севере, никогда не доводилось еще видеть в действии буровую, да и само «черное золото», знал его только по школьной пробирке на уроке химии.
Как рассказать о Самотлоре убедительно и в поэтических красках? Ведь тут еще надо учитывать романтику, всеобщий духовный подъем, азарт освоения, колоссальный напор техники и «пламенных сердец». Все это было в ту пору, как и промахи, насилия над природой, которые признаем много позднее. А пока – от поэтов требовалось сказать свое яркое слово, сообразуясь с поэтическим душевным настроем, порывом, задачами области и страны в целом.
На дворе стоял март 1973 года.
Прежде чем попасть в город Нижневартовск, на Самотлор, и устроить «состязание двух акынов», как шутил Толя Кукарский, полетели в Нефтеюганск, где мы в группе тюменских литераторов участвовали в местных днях литературы.
Всякие авиаперелёты для Кукарского были серьезным жизненным испытанием, он панически боялся подниматься в воздух. Но если уж деться-то в общем было некуда, он граммов сто пятьдесят «принимал на грудь» для храбрости. Не знаю, как он в шестидесятых годах справлялся со своей должностью собственного корреспондента газеты «Тюменский комсомолец», постоянно проживая в Салехарде, где, кроме оленьих нарт с погонщиком и тынзяном, основной транспорт – самолет Ан-2 и вертолет? Но, кажется, справлялся неплохо. Его материалы и стихи о Ямале в молодежной газете мелькали часто. Имя его было на слуху.