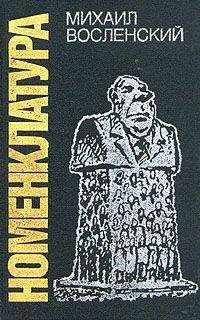А корейцы все шли и шли. С красными, возбужденными лицами, с блестящими глазами, будто полными слез. Утреннее солнце послало свои первые лучи через восточный перевал. Заблестели покрытые инеем железные ручки повозки. Заблестели лица детей. Я смотрел на девочку, она, беззвучно всхлипывая, шла вслед за этой безмолвной процессией.
Повозка остановилась у мастерской плетельщика циновок, и люди с деловым видом, будто все идет как по-писаному, смотрели в сени, где лежал инструмент плетельщика циновок. Люди стояли спокойно, точно у них и мысли не было, что они могут столкнуться с каким-то препятствием. Из сеней вышел старик — плетельщик циновок с узелком в руках, положил его на повозку и тут же вернулся в дом. Процессия двинулась в нашу сторону. Уже можно было рассмотреть за бортом повозки целую кучу самых разных вещей. Я вскочил, дрожа от страха и возмущения, когда корейцы остановились, окружив повозку, и, повернувшись в нашу сторону, стали смотреть в сени, где были мы с матерью. Мать все причитала.
— Пак, и такую глупость затеял. Кан, и такую глупость затеял. Ай-яй-яй, затеять такую глупость. Что теперь будет, что теперь будет?
Они продолжают стоять, точно требуя чего-то, неотрывно глядя на меня, на мать, в темное пространство сеней.
— Принеси чего-нибудь, — сказала мать ворчливо.
— Противно, — сказал я.
— Принеси чего-нибудь. Ай-яй-яй, такое натворить, как завтра людям в глаза смотреть будут? — сказала мать.
— Противно. С чего это я должен им нести?
Корейцы в недоумении ждали. Я смотрел на Кана. Мать чуть ли не плача стала умолять меня.
— Ну же, принеси чего-нибудь. Принеси чего-нибудь, — сказала мать и стала причитать, обращаясь ко мне, будто я был одним из корейцев. — Бедняги. Ай-яй-яй, бедняги. Такую глупость сотворить, как потом людям в глаза смотреть будут? Дураки эти корейцы! Бедный Пак. Бедный Ким. Ай-яй-яй!
Продолжая смотреть на Кана, я не двигался с места. Поручив брату держать ручки повозки, Пак шагнул вперед. Мы с матерью прижались друг к другу. Пак в замешательстве остановился, наблюдая за нами. Потом, решившись, сделал еще шаг и взялся рукой за дверь. Я нагнулся и поднял крюк, к которому подвешивали связки кругляков бумажного дерева. Я запер им дверь. Пак не особенно сильно дернул два-три раза, потом, видимо отказавшись от мысли открыть ее, выпрямился, подбоченился и громко, точно читая по написанному, стал выкрикивать:
— Верните то, что японская империя награбила у корейцев! Все японцы — воры. Верните! Верните! Верните то, что японский милитаризм украл у Кореи! У нас ничего нет. Верните! Верните!
— Дурак. Бедный Пак, а еще старший брат в семье, — дурак. Такое говорит, — все еще причитала мать. Потом, повернувшись ко мне, сказала резко. — Принеси часы. Принеси часы, только смотри, осторожно, не разбей!
Демонстранты из корейского поселка внимательно следили за тем, что происходит за стеклянной дверью. Один лишь Кан наклонил голову и смотрел в землю. На его грязную ногу упала слеза, оставив след. Злоба и страх, кипевшие у меня в груди, мгновенно потухли. Я вошел в комнату, снял со стены у алтаря огромные тяжелые часы и осторожно, стараясь не уронить, понес в сени. Мать отперла дверь, широко распахнула ее, и я с часами в руках вышел наружу. Часы погрузили на самый верх повозки, часы в футляре, украшенном черными резными виноградными листьями, великолепными листьями, и мне показалось, что это хорошее предзнаменование. Это воодушевило меня. Я вернулся назад, получив удовлетворение, пусть хоть и маленькое. Брат стоит в сенях и о чем-то словно умоляет мать, а она точно не слышит и держит ключ для завода часов. Медный ключ в виде головы слона. Брат и я очень его любили.
— Отнеси. Как их заводить без ключа, без него часы остановятся, — сказала мать.
Брат посмотрел на меня.
— Иди отнеси, — сказал я.
Брат постоял в нерешительности. Потом, не поднимая головы, сунул ноги в соломенные сандалии и понес ключ корейцам, которые остановились теперь у аптеки. Я видел, как он передал его Кану. Тот что-то сказал брату, но брат, делая вид, что и слушать не хочет, не поднимая головы, вернулся домой. Он беззвучно плакал, вздрагивая всем телом. Ему было жаль ключа.
— Бедняги. Бедняги. Затеять такое. Как потом Пак будет людям в глаза смотреть? Как потом Кан будет людям в глаза смотреть? Ай-яй-яй. Такое затеяли. Бедные корейцы… — чуть не плача причитает мать. — Бедняги, они все точно рехнулись…
«Сумасшедшие. И корейцы, и мать, и все — все сумасшедшие».
Обнявшись с братом, мы, хотя ноги у нас были грязные, залезли под москитную сетку. Мать сидела в кухне на корточках, обхватив голову руками.
— Что тебе говорил Кан?
— Сказал, что отдаст бабочек, которых мы ему подарили. Наверно, сиреневую. Ну и синюю, красную и черную. Я отдам ему крючок с перьями.
«И Кан сумасшедший. И мать сумасшедшая. И брат сумасшедший», — подумал я. Из подпола, все в рисовой шелухе, вылезли сестры и сели возле матери.
Кан был самым большим моим другом. Братья Пак тоже дружили со мной. Но теперь мы уже никогда не помиримся. Даже если мы и захотим помириться, не сможем, потому что кто-то из нас сделал то, чего нельзя было делать, а кто-то сказал об этом. Вдруг я почувствовал, что так же, как мать, хочу сказать обитателям корейского поселка: «Бедняги. Бедняги. Такое сотворить — как потом людям в глаза смотреть будете?» Мне все опротивело, и на сердце стало тяжело. Я не хотел плакать, слезы сами потекли. И текли долго-долго.
Еще когда был жив дед, еще с тех пор у нас в семье корейцев никогда не обижали. Это знал и Пак, знал и Кан.
— Ай-яй-яй. Бедняги, сотворить такое… — Меня раздражал хриплый от слез голос матери.
Взошло солнце, и деревенская улица высохла. Бессильные взрослые, пряча в улыбке смущение, начали толковать о понесенном ущербе. Сегодня они, наверно, весь день не будут работать.
Утром ребята вихрем носились по деревне и звонили в колокольчики, продавая специальный выпуск газеты. Голоса ребят лишь через какое-то время проникли в мою сонную голову.
— Сегодня придут оккупационные войска. Прячьте в горах женщин и детей!
Брат, весь красный и потный, спал, свернувшись калачиком. «Как блоха», — подумал я и убрал руку, которой стал было трясти его за плечо, чтобы разбудить.
Вернулись мать и старшая сестра, выходившие, наверно, на улицу еще до того, как я проснулся.
Я подумал: «Хоть бы дверь скрипела потише, а то еще разбудит брата».
Под полог просунула голову сестра и шепотом окликнула меня. «Знает ведь, что я не сплю», — недовольно подумал я и высунул голову в холодный упругий утренний воздух, в запах плесени, пропитавший кухню.
— Не успеешь проснуться, и сразу же вы лезете, — сказал я.
— Слушай, пойдем вместо мамы, а? — сказала сестра. — Прямо сейчас. Скоро придут американцы. Наши решили укрывать храмы бамбуком и соломой. А сверху набросаем коры…
— Это еще зачем?
— Если американцы найдут храмы, сожгут.
Я натянул штаны, вместо пояса подвязался широким лыком из коры бумажного дерева, надел рубаху и босиком вышел из дому.
Перед сельской управой уже толпились взрослые и ребята — человек десять. Ребята — все участники хора, который поет на праздниках в храмах нашей деревни. Их называют храмовыми детьми. Несколько лет назад я был старостой в этом хоре.
Из управы, вместе со служителем деревенского крематория вышел секретарь, таща за собой тележку. На ней лежали предметы, необходимые для предстоящей церемонии. Я сказал секретарю, что пришел вместо матери.
— Иди к храмовым детям. И учтите, работать молча, не галдеть, не то сдам вас оккупационным войскам, — сказал секретарь.
«Дерьмо! Уже пугает оккупационными войсками. Сам-то храбрец!» — подумал я с неприязнью. Но остальные дети, которые были младше меня, сразу же притихли и молча двинулись вслед за взрослыми. «Храбрецы», — подумал я со злостью.
В деревне три храма. Мы идем, чтобы укрыть их, превратив в нечто напоминающее монгольскую юрту. Первой мы укрываем Косин-сама — маленькую молельню, стоящую на холме. За ней следует храм Мисима-дзиндзя, почти все жители деревни — его прихожане. Храм слишком велик, и здесь мы действуем по-другому — длинными жердями забиваем ворота, чтобы проникнуть в храм было невозможно. Наконец, шествие жителей деревни во главе с секретарем управы направляется по дороге в верховья реки. Там, километрах в двух от нас, расположено горное селение Такадзё. В нем находится храм Такадзё-сама. Наши деревенские почти не общались с жителями Такадзё. Никто оттуда не шел на войну, потому что все мужчины оказывались негодными для военной службы. Мальчикам при рождении подрезали мышцу на левой руке, а некоторые так даже рождались с этим увечьем. Вообще-то в Такадзё жили всего пять семей, двадцать человек. Они были какими-то особыми людьми. Наши деревенские специально пошли в Такадзё, чтобы помочь им укрыть храм.