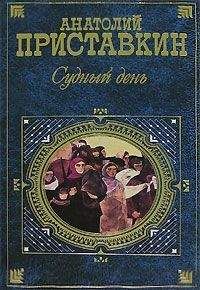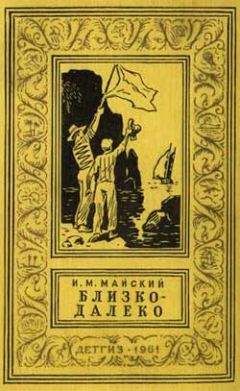Почкайло, которому претила любая неточность, хоть и не любил говорить и считал это пустой тратой времени, сейчас влез в разговор.
– Он и женщины живой не видел, кроме нашей Ляльки… Ну, то есть товарища Востряковой. Ну а если она товарищ, то какая же она, извините, женщина? – развел он руками и сел. А рабочие засмеялись.
– Что же, женщина не может быть товарищем? – возмутилась, покраснев, Ольга.
– Не следствие, а бытовая комиссия, – покачал головой прокурор. – С дисциплинкой у вас, и на глазок видно… Не тово… На фронте вы у меня не поговорили бы много… Благо, что тыл… И в таких условиях военную технику вам еще доверяют!
– А у вас по работе претензии есть? – спросил Швейк.
Ольга прикрикнула:
– Бондаренко!
Но прокурор движением руки попросил Ольгу помолчать и в свою очередь спросил у Швейка:
– А отчего у вас там «молния» о задержке висит? А? Вы мне не расскажете? Петр… Петр…
– Антонович, – подсказали.
– Да, Петр Антонович?
– Как почему? – спросил Швейк, чуть смутившись на непривычное обращение. – Центровщика заарестовали нашего, вот и задержка. Отпустите, задержки не будет!
– Найдите другого! Что за вопрос!
Тут среди рабочих смешок прошел. Все почему-то посмотрели на Силыча. И как не хотел он еще раз в разговор влезать, но поднялся, чтобы пояснить непонятливому прокурору, который, наверное, знал о войне больше, чем о работе в цеху.
– Только короче, – подсказала Ольга и посмотрела на часы.
Но Почкайло отмахнулся:
– Ты, Лялька, молчи. В этом деле ты ничего не смыслишь.
– Вот тоже, – обиделась Ольга и передернула плечами.
Но прокурор вдруг улыбнулся, аж глаза засинели:
– Зачем же короче, я и пришел вас послушать. Милости прошу, говорите все, не стесняйтесь… Пожалуйста!
Он вынул из кармана авторучку с золотым пером, редкость по тем временам, все уставились на нее, и стал быстро записывать на листочке.
Свидетельское показание бригадира сборочного цеха номер пять Почкайло Владимира Никаноровича.
«Ведерникова я еще встречал в ФЗО, но знакомы мы не были. Я закончил на год раньше и к тому времени, как он в феврале сорок второго пришел в наш цех вместе с Бондаренко, Востряковой, Васильевым и другими, я уже работал в бригаде Бусыгина на сборке Т-60, а уже после мы перешли на более тяжелый танк Т-70 и на самоходку СУ-76. Другую же цепочку сборки пятого цеха возглавлял нынешний мастер Букаты, который сейчас находится в больнице. Ведерникова и других фабзайцев, мы их так называем, направили к Букаты, но он не хотел их к себе брать, и от Кости Ведерникова он тоже отказался. Он сказал так: «Что я, нянька, с этим детским садом возиться, сопли им подтирать». Это после того случая, как Ведерников потерял свой талон на обед, на который нам выдавали завариху, ее еще называют затирухой: баланда из муки, заправленная постным маслом и луком. Когда Ведерников потерял свой талон, он заплакал, и все помнят этот случай. Тогда в цехе стали говорить, что зачем такого брать, если он ложку не может в руках держать, не только инструмент для работы. И тогда их сперва направили строить из бруса одиннадцатый цех по соседству, под которым уже стояли прямо на земле станки, и на них работали эвакуированные из Коломны. А стены мы уже потом сделали. Но они все числились в нашем пятом цехе и приходили к нам греться, хотя и у нас тоже не топилось.
Все запомнили тот случай, когда с мороза, с улицы, танки ввезли в белом инее, а мороз был выше сорока, а Ведерников, который еще без опыта, взялся рукой за броню и прилип к ней кожей, а кожа его вся на броне осталась. Кровь из него хлещет, он побледнел, но не проронил ни слова. А бывший тогда мастер Букаты проводил его в медкабинет, а когда вернулся, говорит, что на перевязке на голое мясо повязку наложили, а он не пикнул, и потому его надо учить и ставить с таким терпением на центровку. Там тоже надо адское терпение иметь, а у этого фабзайца, как сказал он про Ведерникова, виден характер. А в бригаде как раз Синицын-центровщик на фронт добровольно ушел, мы на него через год похоронку получили. Он, этот Синицын, на скрипке играл, хоть и был рабочим, и говорил, что для центровки особая чувствительность пальцев нужна. Вот что такое центровка. Еще чутче, говорит, чем на моей скрипке. А уж он-то знает. Когда похоронка на Синицына пришла, мы все его жалели, а Костя Ведерников к этому времени уже его заменял, и Букаты говорит: «Ты теперь у нас один такой остался, что незаменимый. И понадобится, мы и Силыча, – это так меня прозвали со времен ФЗО, а еще Кувалдой звали, я ею больше любил орудовать, – так вот, мы Силыча, – говорит, – заставим лезть и центровать». Но это он в шутку, потому что центровка происходит внутри танка и даже Косте, который меньше нас всех, в три погибели приходилось сгибаться, чтобы туда влезть. Военпред может не сразу работу всех проверить, установку там катков, ленивцев, но центровку он проверит обязательно. У нас лозунг такой: «Сдача с первого раза!» Как бригадир, я удостоверяю, что за три года и два месяца работы Ведерников не имел брака ни разу. Он даже слишком старательный, все уйдут на обед, а у него чего-то не выходит, он там и сидит в танке, а мы ему баланду тащим. Или после работы возится и заснет. А проснется, лицо, простите, как печеное яблоко. Он вот так работал, и потому его вешали на Доску почета, как лучшего, и писали и даже в речах называли как передовика, и в Москву посылали, хотя когда с ним знакомились, его никто не принимал всерьез, из-за роста. Он и на работу никогда не опаздывал и даже представить невозможно, чтобы он хоть на минуту где задержался, не то чтобы прогулять целую смену. Если бы мне сказали раньше, я бы не поверил. Некоторые говорят, что на него будто бы Васильев повлиял. Но я и этому не верю, хотя они между собой дружили.
Записанные мои показания с моих слов прочел и с ними согласен. В. Почкайло. 25 апреля 1945 года».
«Уточнение по поводу центровки и как она делается. На танке ставится мотор, это, кстати, моя работа, и ставится фрикционная коробка, и их валы стыкуются так, чтобы зазор по щупу был не более пяти сотых миллиметра. Это как волос человека, не толще. Если же произойдет ошибка, то начнется биение, вибрация и разрыв тяги. В бою такой бы брак мог вывести боевую технику в самую трудную минуту. Но фронтовики были довольны и даже приезжал генерал, который похвалил нас за работу и Ведерникова лично, хотя и произошел инцидент, о котором я не хочу рассказывать, так как он отношения к делу не имеет.
По поводу же Букаты, который сейчас в больнице, то отношение у него к рабочим хорошее, и Васильев, которого он после погнал за брак, работал на соединении рулевых тяг, и мы присутствовали, когда обсуждалось поведение Васильева. Но никакого конфликта у нас с Букаты не было, и я не слышал, чтобы Ведерников с ним ссорился. Хотя Букаты и очень строгий мастер. Но Ведерников ни с кем никогда не спорил и вообще был молчалив. О дружбе же Васильева и Ведерникова ничего добавить не могу. Они, по-моему, разные люди, хотя дружили в ФЗО. С уточнением ознакомился и согласен, что с моих слов записано, кроме слова «разрыв», которое надо заменить на слово «смещение тяги на излом», что будет точнее. В. Почкайло. 25 апреля 1945 года».
Третьи сутки лихорадило пятый сборочный, все шли и шли, все дергали без конца бригаду, и бригадира, и мастера; от комитета комсомола и от начальника цеха Вакшеля, но больше других от цепких военпредов, которые хозяевами тыркались по цеху и вмешивались во все дела. Но ясно, что их тоже не гладили по головке, звонки из Москвы из Наркомата сигналили все угрожающей, а техника между тем задерживалась и погрузка эшелона шла медленно. Ненормально медленно. Букаты, конечно, психовал, а тут еще Ведерников, опытный, можно сказать, образцовый рабочий, во вчерашней смене о чем-то замечтался, не заметил, что смотрит незащищенными глазами на бенгальские снопы искр от сварочного автомата. За ночь глаза у него покраснели, заслезились, веки опухли, как говорят, «наелся глазами», ему бы на бюллетень, но о каком там бюллетене речь, если все сошли с ума от непрерывных понуканий. Единственно, что спасало Ведерникова: в его центровке нужны более руки, чем глаза. Но, к сожалению, и глаза тоже. А тут еще прибавились неприятности с Толиком Васильевым, в ФЗО его звали Васильком, также как Петю – Швейком, Ольгу – Гаврошиком, а Костю – просто Костиком. К нему клички почему-то не липли.
Но о чем он мог размечтаться, когда происходит такая гонка, что многие забыли, как их зовут! Небось сидел, свернувшись улиткой, на железном дне очередной машины. И день сидел, и два, и неделю, и год, и два года, и третий… Выскочил по какому-то делу, хоть могло бы показаться, что он тут на всю жизнь прописан в цехе, на дне «тачки», и незачем ему вылезать: сдал и перелез в другой, и снова сдал… Так мидия меняет себе панцирь, без которого она уже и не ракушка, и никто… Даже тело Костик всовывал наподобие улитки внутрь железной коробки, не передом, не головой лез, а ногами, так удобнее было.