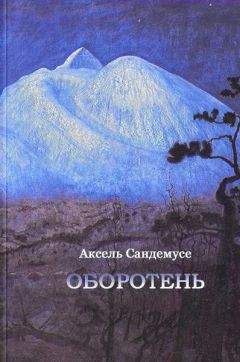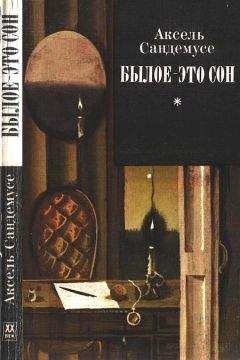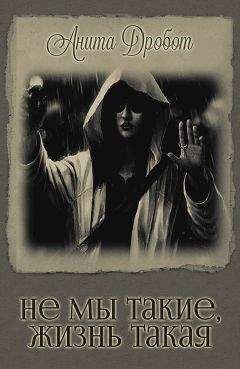— Но, Эрлинг! Это же совсем другое…
— Одно неизбежно напоминает о другом. Если ты не позволишь мне объяснить, что я чувствую, это всегда будет стоять между нами.
Он увидел ее руку, лежавшую на скамье. Пальцы сжались в кулак, суставы побелели.
— Ты всегда добиваешься своего, Фелисия. Тебе захотелось родить еще одного ребенка. Его отцом, как и отцом первого, должен был быть Ян, причем отцовство Яна не должно было вызывать подозрений. Ни у него, ни у тебя, ни у кого бы то ни было вообще не должно было возникнуть никаких сомнений. Как известно Господу Богу и всем людям, твоя вторая дочь родилась через год после того, как я уехал в Лас-Пальмас.
— И когда сын бедного портняжки сообразил, что никто не заподозрит, будто он отец моего ребенка, он почувствовал себя рогоносцем, — тихо, но твердо проговорила Фелисия.
Эрлинг встал и отошел от скамьи. Она смотрела на его выгоревшие волосы, на вздувшиеся на шее жилы, на потемневшие от солнца плечи и смуглую сильную спину. Белые шорты были подхвачены ремнем, который она ему когда-то одолжила. Фелисия рассердилась на Эрлинга за свою собственную опрометчивость. Теперь хозяином положения стал он!
Эрлинг медленно повернулся к ней, глаза его сузились. В голосе слышалась дрожь, которая не предвещала ничего хорошего:
— Это все, что ты хотела сказать мне? Я тебе все выложил. Все как есть. Нам следовало по возможности расставить все точки над І. Больше ты ничего не хочешь сказать мне?
Он повторил свой вопрос, и ей показалось, что его тон стал мягче, хотя прибавленные им слова были резки сами по себе:
— Больше ты ничего не хочешь сказать мне… великосветская барыня?
— Эрлинг, пожалуйста, иди сюда, сядь…
Садиться не следовало хотя бы потому, что ему очень этого хотелось. Женщины всегда пользуются оружием, каким мужчины не располагают. Это несправедливо. Он сел.
На этот раз Фелисия воспользовалась обычным оружием:
— Послушай, Эрлинг. Ты прав, я не была с тобой откровенна перед твоим отъездом. Пожалуйста, забудь это, как досадную ошибку, если считаешь, что я поступила неправильно. Да, мне хотелось родить второго ребенка, и, наверное, мой план был не совсем удачен, но ведь ты уехал в Лас-Пальмас не под конвоем, и я виновата лишь в том, что использовала старые связи моего отца, чтобы поездка в Лас-Пальмас и пребывание там обошлись тебе как можно дешевле. Платил ведь за все ты сам. Ты сказал, будто я хитростью заставила тебя уехать, не помню точно, как ты выразился, но в таких вещах все непросто. Я подумывала о втором ребенке. И вдруг однажды вечером в Венхауге ты сказал, что, наверное, пришло время тебе снова пожить за границей, причем долго. Возможно, это было сказано несерьезно. Но мои отношения с тобой и с Яном всегда были сложны сами по себе. И все только усложнилось бы, решись я еще на одного ребенка. Пойми, мысль о втором ребенке давно тлела во мне. Я только не могла допустить, чтобы у кого-то возникли сомнения в том, кто отец ребенка. И вдруг ты сам заговорил о поездке за границу! Глупый Эрлинг! Я даже заподозрила, что таким образом ты просто хочешь прервать нашу с тобой связь. Правда, я тут же поняла, что ошибаюсь и что завтра ты, вероятно, забудешь о своих планах. Ведь ты был не совсем трезвый. Но меня вдруг осенило: вот выход! Я отнеслась к твоим словам серьезно, меня устраивал твой отъезд. И стала готовить твою поездку. Я не слушала твоих, впрочем довольно слабых, возражений, потому что мне очень хотелось родить второго ребенка. Что касается твоей поездки, думаю, я и сама обманулась, считая одно время, что стараюсь только для тебя. Мне стало известно, что в Лас-Пальмасе ты можешь устроиться относительно недорого, и, прости меня, я убедила себя, что ты всегда мечтал поехать именно в Лас-Пальмас. Глупо, конечно, но ты сам привел в движение эту машину.
Эрлинг хотел прервать ее, но она крепко схватила его за руку и продолжала:
— Ведь ты понимаешь, Эрлинг, что… все наши поступки должны находиться в равновесии… мы должны следить, чтобы чаши весов уравновешивали друг друга… и потому никто, кроме Яна, не мог быть отцом ребенка, если бы я решила рожать. Вы с Яном друзья. Ты уже много лет приезжаешь к нам в Венхауг и должен понять, что в противном случае равновесие было бы нарушено…
Она заторопилась, чтобы закончить свою мысль:
— К тому же у тебя в Венхауге уже есть дочь, и все прекрасно понимают, что я ни при каких обстоятельствах не могла быть матерью Юлии. Разве мой поступок не отвечает тому, что я называю сохранением равновесия? Ты обманул меня, когда мне было семнадцать, бросил и тут же, можно сказать за углом, заимел ребенка от другой женщины. Разве я не права? Так не пытайся теперь, после того как ты со своей известностью, опытом и очарованием вскружил голову школьнице, говорить, что я поступаю неправильно…
Эрлинг встал. Он поднял Фелисию со скамьи и прижал к себе.
— Хватит, — сказал он. — Пойдем в дом.
Эрлинг проснулся от доносившихся из кухни звуков, комната была залита солнцем. Он спал так крепко, что, проснувшись, не сразу сообразил, где находится. Он опасался, что, открыв глаза, окажется совсем не там, где ему хотелось бы, что он обнаружит незнакомую комнату или, хуже того, увидит кого-нибудь, с кем ему, голодному, неумытому и злому, придется разговаривать натощак.
Однако он был дома, в своей спальне, и Фелисия наконец-то была рядом. Как он тосковал по ней! Эрлинг выгнулся, а потом потянулся, с наслаждением ощущая каждую жилку, каждый мускул, еще раз блаженно потянулся и зевнул, как собака. Он распрямлялся, словно ребенок после рождения.
Запахло кофе. За окном пели птицы, и он различал девственные очертания берез, которые не сегодня завтра должны были зазеленеть. Утро было тихое и ясное. Солнечные пятна на полу разбудили в Эрлинге радость. Должно быть, он здорово проспал, если солнце уже заглянуло к нему в окно. Ему захотелось обнять Фелисию, но он удержался. Сперва нужно встать, почистить зубы, умыться, а уж потом можно будет снова забраться в постель. Одно цеплялось за другое. Эрлинг часто читал, как человек, разбуженный утром поцелуем, тут же начинал заниматься любовью (иначе истолковать все эти слова и мысли было просто невозможно), — ни о каком кофе не было и речи, а стакан пива показался бы возмутительным нарушением стиля. Потом любовники долго болтали о всяких приятных пустяках, а тем временем обладающий воображением читатель страдал за разбуженного поцелуем героя, который должен был думать сейчас совсем о другом.
Один из недостатков Эрлинга заключался в том, что он просыпался в радужном настроении, если накануне ему случалось выпить, и бывал неестественно зол и мрачен, если засыпал трезвым, такое пробуждение было для него равносильно стихийному бедствию. В молодости он даже мечтал о небольшой язве желудка, которая заставляла бы его по меньшей мере ограничивать количество выпитого, раз уж судьба отказала ему в тяжелом похмелье, а ничто другое не могло заставить его держаться в разумных пределах. Ему не было свойственно и обычное чувство стыда; напротив, он имел склонность смеяться в самых неподходящих случаях, однако ему почему-то становилось стыдно за смех других. Когда-то он, как и многие другие, считал себя не совсем нормальным, но с годами пересмотрел некоторые свои оценки. Однажды, очень давно, дети попросили его выпивать каждый вечер, потому что после этого утром он бывал веселым и добрым. Эллен с трудом удержалась от смеха, хотя, будучи моралисткой, не могла одобрить того, что человек весел и прекрасно себя чувствует, тогда как по воле Божьей должен испытывать раскаяние и отвращение к себе.
Эрлинг тихонько вышел из комнаты. Фелисия в окно видела, как он вылил себе на голову ведро воды и запрыгал на месте, оттого что вода оказалась слишком холодной. Она выбежала к нему с полотенцем. Он выхватил его у нее из рук по дороге в дом, успев, однако, заметить ее тонкую талию, перехваченную ремешком, узкую желтую юбку, не скрывавшую здоровую игру мышц и стройные ноги в серых замшевых туфлях без каблуков. Дрожа, он растерся полотенцем и, зевая, снова нырнул в теплую постель. Пить-пить — выстукивали его зубы. Умираю от жажды!
Только тогда он заметил Фелисию с открытой бутылкой пива в руке.
— Пьяница! — сказала она, но голос ее звучал почти благоговейно.
Эрлинг жадно прильнул к горлышку пивной бутылки и, опустошив ее, со счастливым стоном откинулся на подушку. Фелисия вернулась на кухню. По телу Эрлинга разлилось блаженное тепло, он ощущал каждую клеточку своего тела, дышал всей плотью, даже растопыренные пальцы ног пили воздух.
Фелисия негромко напевала на кухне, готовя что-то вкусное. Задумчиво, временами прерываясь, она пела одну из старинных песен об Оборотне, которой Эрлинг сам когда-то научил ее. По тому, как она пела, он мог угадать, что именно она сейчас делает, — песня звучала то громче, то тише, то вовсе замирала на мгновение в зависимости от того, чем в это время были заняты руки Фелисии.