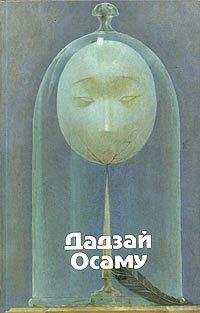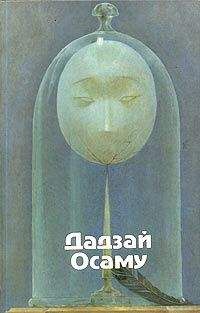— Ваша матушка изволила полностью выздороветь. Из этого следует, что с сегодняшнего дня она может принимать любую пищу и делать все, что пожелает.
Он изъяснялся так странно, что мне стоило больших усилий не расхохотаться ему прямо в лицо. Проводив доктора и вернувшись в комнату, я увидела, что матушка сидит в постели с радостным и немного удивленным видом.
— Он и в самом деле оказался прекрасным специалистом, — пробормотала она словно про себя. — Я чувствую себя совершенно здоровой.
— Раздвинуть сёдзи[5]? — предложила я. — Идет снег.
С неба, словно лепестки цветов, падали крупные хлопья снега, мягко ложились на землю. Раздвинув сёдзи, я села рядом с матушкой, и мы стали смотреть на снег.
— Я совершенно здорова, — снова пробормотала матушка.
— Когда мы сидим здесь вот так, — сказала она, — все, что с нами случилось, кажется мне далеким сном. Откровенно говоря, перед самым отъездом я вдруг прониклась такой глухой и беспричинной ненавистью к Идзу, что просто ничего не могла с собой поделать. Я хотела только одного — хоть на день, хотя на полдня задержаться в нашем доме на Нисикатамати. Когда мы сидели в поезде, мне казалось, что я наполовину мертва, когда же мы приехали сюда, я сначала почувствовала себя немного лучше, но едва опустились сумерки, нестерпимая тоска по Токио опалила мне сердце, у меня закружилась голова, и все расплылось перед глазами. Это никакая не болезнь. Просто Бог убил меня, превратил в совершенно другого человека, не имеющего ничего общего со мной прежней, а потом снова возвратил к жизни.
И до сих пор наша жизнь в этом сельском уединении шла довольно спокойнр и размеренно, без каких бы то ни было происшествий. Местные жители были добры к нам. Мы переехали сюда в декабре прошлого года, минули январь, февраль, март, наступил апрель… До сегодняшнего дня мы жили, отрешившись от всего на свете, и если не возились на кухне, то либо сидели с вязаньем на веранде, либо читали, либо пили чай в китайской гостиной. В феврале расцвели сливы, и поселок оказался погребенным под цветами. Пришел март, но дни стояли такие безветренные и теплые, что ни один лепесток не упал на землю, сливы стояли в цвету до самого конца месяца. Они были так прекрасны — и утром, и днем, и в сумерках, и ночью, — что просто замирало сердце. Стоило приоткрыть стеклянную дверь на веранде, как в дом проникал необыкновенный тонкий аромат. В конце марта по вечерам обязательно поднимался ветер, и когда мы сидели за чаем в сумеречной столовой, из окна в комнату влетали лепестки и падали в пиалы с чаем. В апреле мы с матушкой проводили время на веранде за вязаньем и обсуждали, что посадим на нашем огороде. Матушка сказала, что будет помогать мне. Ах, когда я написала это, мне вдруг пришло в голову, что хотя мы и в самом деле, как сказала матушка, умерли и возродились потом в совершенно ином обличье, человеку, наверное, все же не дано воскреснуть, как Иисусу Христу. Вот и сама матушка, что бы она там ни говорила, все-таки вскрикнула, проглотив ложку супа, потому что в тот миг подумала вдруг о Наодзи. Мои старые раны тоже, наверное, еще не скоро заживут окончательно.
Ах, мне хочется описать все в точности, как оно было, не пропуская ничего, ни единого пустяка. Иногда я думаю, хотя и себе самой боюсь в том признаться, что безмятежность нашего нынешнего существования в этом сельском жилище не более чем ложь и притворство. Я не могу избавиться от ощущения, что на эту мирную жизнь, дарованную Богом матушке и мне, как недолгую передышку, уже легла мрачная тень несчастья. Иногда мне кажется, что я больше не выдержу: матушка угасает с каждым днем, хоть и делает вид, что абсолютно счастлива, а в моей груди поселилась гадюка, она тучнеет и тучнеет, словно высасывая из матушки все соки, она тучнеет, несмотря на то, что я всеми силами стараюсь противиться этому. Ах, если бы я могла сказать: «Это просто проделки весны!» Конечно, я скверно поступила с змеиными яйцами, и это лишний раз доказывает, в каком ужасном состоянии мои нервы. Я доставляю матушке одни неприятности, усугубляя ее горе и лишая последних жизненных сил. Любовь… Ах нет, я больше не в силах написать ни слова.
2После того случая со змеиными яйцами прошло дней десять, и все это время нас преследовали дурные предзнаменования, они делали матушку несчастной и сокращали ее жизненный срок.
Начать с того, что я устроила пожар.
Я поджигаю дом! Да такого кошмара мне и во сне не могло привидеться!
Неужели я так и осталась изнеженной «барышней», которой и в голову не приходит, хотя это так очевидно, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожару?
Встав по нужде поздно ночью, я дошла до стоявшей в прихожей ширмы и вдруг заметила какое-то свечение в той стороне, где ванная. На всякий случай заглянула туда и увидела, что стеклянная дверь ванной сделалась ярко-красной, а за ней что-то трещит. Я бросилась к боковой двери, открыла ее и босиком выскочила наружу. Куча хвороста, громоздившаяся возле топки, была охвачена пламенем.
Добежав до крестьянского дома, стоявшего сразу же за нашим садом, я что было силы принялась колотить в дверь:
— Накаи-сан! Скорее проснитесь! Пожар!
Накаи, судя по всему, уже спал.
— Иду-иду! — наконец откликнулся он и поторапливаемый моими криками: «прошу вас, скорее, скорее», выскочил из дома прямо в ночной рубашке.
Вдвоем мы вернулись к полыхавшей куче хвороста и стали поливать ее водой, таская ее ведрами из пруда. Тут со стороны коридора послышался крик матушки. Отбросив ведро, я поспешила к ней.
— Маменька, не волнуйтесь, все уже в порядке, ложитесь.
Успев подхватить лишившуюся чувств матушку, я отвела ее в спальню и, уложив, бегом вернулась в сад. Теперь я черпала воду из ванны и передавала ее Накаи-сан, а он выливал ее на кучу хвороста. Но пламя все разгоралось, похоже было, что вдвоем нам не справиться.
— Пожар! Пожар! На вилле пожар! — послышались крики снизу из поселка, и вскоре в сад, сломав изгородь, ворвались люди. Они стали заливать огонь, передавая от одного к другому по цепочке ведра с водой, которую они черпали из резервуара, стоящего у изгороди. Через несколько минут им удалось справиться с пламенем. А ведь еще немного, и оно перебросилось бы на крышу дома.
«Повезло!» — с облегчением подумала я и тут же содрогнулась, поняв, что послужило причиной пожара. В тот миг я впервые сообразила, что весь этот ночной переполох возник только потому, что вчера вечером я оставила возле кучи хвороста вытащенные из топки тлеющие гнилушки. Мне казалось, что я загасила их, а на самом-то деле я забыла это сделать. От такого открытия слезы навернулись мне на глаза, я словно приросла к земле. Тут до меня донесся громкий голос жены Ниси-яма-сан из дома напротив: «Ванная-то, небось, сгорела подчистую. Уж конечно, если так обращаться с топкой…»
Подошли староста поселка Фудзита, местный полицейский Футамия и глава пожарной управы Оути. Фудзита спросил, как всегда приветливо улыбаясь:
— Испугались, наверное? Как это случилось?
— Это я во всем виновата. Мне казалось, я загасила гнилушки… — только и сумела выдавить из себя я и, опустив голову, замолчала.
По щекам моим покатились слезы, я чувствовала себя такой несчастной. «Сейчас меня заберут в полицейский участок как самую последнюю преступницу», — мелькнуло в моей голове. Вдруг я вспомнила, что стою перед ними босая, непричесанная, в одной рубашке, и чуть не сгорела от стыда, подумав, сколь жалкое зрелище я, должно быть, собой представляю.
— Понятно. А ваша матушка?.. — тихо спросил Фудзита-сан, в голосе его звучало живое участие.
— Матушка в спальне. Она очень испугалась…
— И все же, — вставил молодой полицейский, очевидно, желая утешить меня, — вам повезло, что огонь не перебросился на дом…
Тут пришел успевший переодеться Накаи-сан и, задыхаясь от быстрой ходьбы, заявил:
— Да ничего страшного, подумаешь, сгорела кучка хвороста. Не из-за чего поднимать шум.
Он явно хотел меня выгородить.
— Что ж, тогда ладно. — Фудзита-сан несколько раз кивнул и, пошептавшись о чем-то с полицейским, сказал, обращаясь ко мне:
— Ну, мы пошли. Кланяйтесь матушке.
И удалился вместе с главой пожарной управы и прочими. Только полицейский задержался и, подойдя ко мне почти вплотную, чуть слышно прошептал:
— Я не стану упоминать в донесении о том, что произошло сегодня ночью.
После того, как удалился и он, Накаи-сан озабоченно спросил:
— Что он вам сказал?
— Что не станет упоминать в донесении… — ответила я.
Соседи, все еще стоявшие у забора, очевидно услышали мои слова, во всяком случае, они стали расходиться, бормоча: «Ну вот и хорошо, вот и ладно».
Пожелав мне приятного сна, ушел и Накаи, а я осталась одна у сгоревшего хвороста. Глотая слезы, рассеянно взглянула на небо — оно уже начинало светлеть.