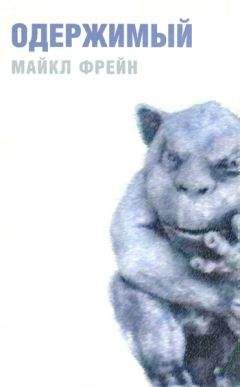Я выманю у него картину — вот теперь смысл моей жизни. Не знаю, как мне это удастся, но я заполучу ее, я уверен.
— Может быть, это неизвестная работа Рембрандта? — говорит Лора, которая ходила за моим пальто.
— Надеюсь, мы не слишком утомили вас своим «семейным альбомом», — произносит Тони, помогая мне вдеть руки в рукава.
— Нет-нет, что вы. Было очень интересно. Жаль только, что помочь мы вам так и не смогли.
— Вы даже не представляете, — жалуется Тони, — каково это — продавать вещь, о которой вам ни черта не известно. Единственное, в чем вы уверены и так, это что против вас весь мир. Вы чувствуете себя самой одинокой душой на свете.
Он открывает входную дверь, и собаки выскакивают наружу, оглашая лаем ночную тьму. Когда мы поворачиваемся на пороге, чтобы попрощаться, и я смотрю на Тони, у меня внезапно возникает к нему чувство жалости. В его голосе мне слышатся пораженческие нотки. Вода по-прежнему тихонько капает из дырявой водосточной трубы где-то над головой, собаки за долгие годы проскребли до дерева белую краску на дубовой двери. Жена его, которая стоит у него за спиной, давно сбежала бы в ночь вслед за собаками, если б могла. Его мир окончательно рушится, и он не понимает почему.
— Он рассчитывал, что вы кого-то знаете, — говорит Лора. — Какого-нибудь специалиста по Джордано. Или кого-то, кто захотел бы без лишней шумихи купить картину. Он любит все делать шиворот-навыворот.
Да нет же, он просто самая одинокая душа на свете. И вскоре ему предстоит распрощаться еще с одним своим достоянием. Если, конечно, у меня все получится. Потому что другая самая одинокая душа на свете в этот момент — это я. Мы стоим друг против друга на пустой арене, готовясь к поединку, и я намерен выйти из него победителем.
Меня охватывает мимолетный приступ первобытной жестокости. Я отберу у него картину. Он не имеет на нее настоящих прав. Ее язык ему чужд, потому что единственный язык, который он хорошо усвоил, — это язык денег. Если бы он знал истинную цену этой картины, он бы мировой культуре просто так ее не отдал. А если бы среди музеев не нашлось желающих заплатить выкуп, он продал бы ее за сумму, которая ассоциируется со швейцарским банком, американской инвестиционной компанией или японским гангстером. И она бы вновь оказалась потерянной для человечества, на этот раз окончательно.
Будь цены на топливо немного выше, он продал бы ее на дрова.
Между прочим, у Тони на эту картину не больше прав, чем у меня. Шедевром живописи нельзя владеть. Вам могут принадлежать дубовая панель и краски, но нельзя заявить права на изумрудную россыпь весенней листвы, комично выпяченные для поцелуя губы или уплывающий вдаль парусник.
Итак, я отберу у него картину. Но к обману мне прибегать не придется. Я не стану опускаться до методов, которые, я уверен, предпочел бы он сам. Я добьюсь своей цели отвагой и ратным искусством, в полном соответствии с законами войны.
Я знаю, он презирает меня со всеми моими знакомствами и связями, которыми он намеревался воспользоваться, но я пойду с козырей, на которые он сам больше всего рассчитывает. Я преподам ему урок джентльменского поведения, то есть элегантной беспощадности.
Вечное изменение — закон жизни; такова была одна из его сегодняшних сентенций. Что ж, ему предстоит на собственном опыте убедиться, что этот закон подразумевает и смену владельца некой конкретной картины, неизбежную, как смена исторических эпох.
Через мгновение я ужасаюсь собственным замыслам. Я знаю, что заплыл слишком далеко, что под ногами давно нет дна.
И ужасаюсь еще больше, когда Тони, закрывая тяжелую дверь, вдруг проявляет учтивость.
— Я, пожалуй, воспользуюсь вашим советом по поводу той похищенной крошки и позвоню в «Сотби», — говорит он смиренно.
Я успел забыть об этом своем предложении, которое еще несколько минут назад казалось таким разумным. За долю секунды в моем воображении проносится каскад образов: вот эксперт из «Сотби» заканчивает осмотр «Елены» и уже собирается уходить, как взгляд его останавливается на холодном камине, прикрытом деревянной панелью… У меня мгновенно возникает план, и не успеваю я опомниться, как язык уже начинает этот план реализовывать.
— Нет, подождите денька два, — говорю я с улыбкой. — Вы правы, будет лучше, если вы изучите все возможные варианты. У меня есть на уме один знакомый, который, возможно, захочет взглянуть на вашего Джордано.
Мы направляемся к машине, аккуратно перешагивая через лужи. Дождь прекратился, не забыв на прощание украсить покрытые молодой листвой веточки сверкающими в лунном свете серебряными звездами.
Пройдет еще несколько секунд, и я наконец смогу заговорить с Кейт. Подобно влюбленному, жарким шепотом повторяющему имя своей избранницы, я поделюсь с ней тайной, которая так сладко жжет мне душу.
Но я не решаюсь произнести ни слова. Мы молчим, пока машина медленно пробирается через ухабы и лужи.
Я продолжаю лихорадочно соображать. Ясно, что просто так выпаливать эту потрясающую новость нельзя. Даже Кейт. Тем более Кейт. Она не поверит. Да и никто бы не поверил. Ни самые доверчивые ценители искусства, ни самые легковерные жены. Впрочем, ни к тем, ни к другим Кейт не относится. Как профессионал в своем деле она исповедует осторожность; как жена она уже усвоила скептическое отношение к моему интеллектуальному непостоянству. Она подумает, что это всего лишь очередная вариация на прежнюю тему… очередной предлог, чтобы не работать над книгой. С Кейт мне придется быть не менее осмотрительным, чем с Тони Кертом. В данный момент я полагаюсь лишь на память, на спонтанно возникший интерес к теме, которая находится довольно далеко за пределами моего по крохам собиравшегося багажа искусствоведческих знаний. Прежде чем я обмолвлюсь хотя бы словом, я должен тщательно все изучить. Подобно адвокату, мне придется убеждать «присяжных» документированными свидетельствами.
Она-то, интересно, почему молчит? Ей так сильно не понравился вечер, который для меня предстает уже в новом свете, хотя для нее он, конечно, не может не выглядеть кошмаром? Раздражена, что я так долго тянул с прощанием? Ей кажется подозрительной моя излишняя обходительность с Лорой? Она обиделась на нас с Кертами за то, что мы обменивались пустыми фразами о второразрядных картинах, вместо того чтобы восторгаться самым замечательным и прекрасным созданием, которое она в тот момент укачивала на другом конце комнаты?
Или мое молчание открывает ей больше самых громких слов? Я тороплюсь нарушить опасную тишину.
— Bay, — замечаю я, — как сказала бы наша радушная хозяйка.
— Ты о чем? — спрашивает Кейт. Я был прав, ее что-то гнетет, раз она предпочитает меня не понять, и это плохой знак.
— О Кертах, — пускаюсь я в объяснения, хотя понимаю, что они излишни, — об их доме, о том, как прошел вечер.
— А что такое?
— Bay! Разве нет?
Она снова молчит. Мне особенно обидно, что она молчит в тот момент, когда мы должны быть как никогда едины перед лицом общего врага. Меня нервирует ее молчание, когда я так переполнен эмоциями. И тут она не выдерживает:
— Что ты имел в виду, когда сказал, что у тебя есть на уме знакомый, который захочет взглянуть на их Джордано?
Так вот в чем проблема.
— Ничего, просто проявил к нему добрососедское отношение.
— Но у тебя ведь нет знакомых, которые знали бы что-нибудь о Джордано!
— С чего ты взяла?
— Ты сам не слышал о нем до сегодняшнего вечера!
Я-то, конечно, думал, что слышал. Но мне казалось, что это композитор, автор оперы «Андре Шенье», поэтому от ответной реплики я воздерживаюсь.
— И потом, при чем здесь добрососедское отношение? — настаивает она. — Ты говоришь им о каком-то знакомом, которого на самом деле не существует.
— Ну, я поищу немного, может, кто-то найдется.
— И где же ты собираешься искать?
— В сарае, — размышляю я вслух, — или за печкой.
Но ее не развеселить. Она догадывается, что я что-то задумал. От Кертов я, быть может, и смог это скрыть, но не от нее. Так или иначе, мне с трудом удается сдерживать волнение. Надо стимулировать ее любопытство новыми намеками и ложными выпадами, даже если это ее раздражает. Пусть тайна загадочного любителя Джордано послужит метафорой, скрывающей подлинную тайну.
— Вообще-то, — говорю я, — кто знает, может, я на правильном пути. Может, мне попадется где-нибудь в пределах наших владений нужное лицо.
Я имею в виду — чего жена, естественно, не понимает, — что выдам себя за умудренного опытом знатока живописи. Это часть плана, который у меня возник, когда мы уходили от Кертов. Я пока не представляю, как буду его осуществлять. Для начала, разумеется, придется часа два поработать со справочной литературой. А что дальше? Наклеить бороду, надеть темные очки и изобразить иностранца, изъясняясь с акцентом? Или, может, попробовать выманить у Тони картину якобы для того, чтобы ее мог осмотреть потенциальный покупатель? Скажу, что он не хочет раскрывать себя. Правильно, он хочет сохранить инкогнито! Но почему? Что сказать Керту?