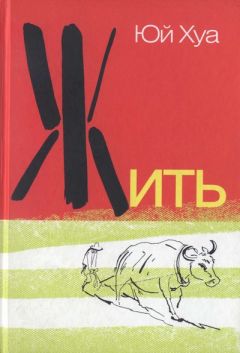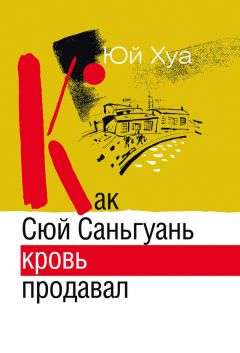Поэтому дальше на юг я шел по ее следам. Я не был дома почти два года: ушел поздней осенью, а вернулся ранней. Наша деревня совсем не изменилась. Сначала я увидел бывший наш кирпичный дом, крытый черепицей, а как показалась наша теперешняя камышовая хижина, я понесся к ней со всех ног.
У околицы оборванная девочка лет семи вела за руку трехлетнего малыша. В другой руке она держала серп. Я их позвал:
— Фэнся, Юцин!
Мальчик повернулся, а девочка меня не услышала. Я позвал еще раз:
— Юцин, Фэнся!
Мальчик потянул сестру за руку. Она обернулась и увидела меня. Я подбежал к ним, присел на корточки:
— Фэнся, помнишь меня?
Она широко раскрыла глаза, улыбнулась беззубой улыбкой, но ничего не сказала.
— Фэнся, я твой папа!
Она будто засмеялась, только без звука. Я подивился, но долго думать не стал — главное, она мне радуется. Я погладил ее лицо, она ко мне прижалась. Юцин меня, конечно, не узнал, сторонился. А когда я ему сказал:
— Сынок, я твой папа! — он и вовсе спрятался за сестру и стал тянуть ее за руку:
— Пошли, пошли!
Тут прибежала Цзячжэнь, села у моих ног, сказала «Фугуй» и залилась слезами. Я ее спрашиваю:
— Ну что ты ревешь?
А сам тоже плачу.
Ведь я вернулся живой, и жена с детьми тоже живы.
Когда мы подошли к дому, я закричал:
— Матушка, матушка!
Но никто мне не ответил, и в доме было пусто. Я посмотрел на Цзячжэнь, она ничего не сказала, только из глаз у нее покатились слезы, и я понял, где матушка.
Она умерла через два месяца после моего ухода. Цзячжэнь много раз справлялась обо мне в городе, но без толку. Так матушка и умерла, не зная, где ее сын. Перед смертью она все повторяла:
— Он не играет!
Бедная матушка! И бедная Фэнся: Цзячжэнь рассказала, что за год до того у нее приключилась лихорадка, и она онемела. Фэнся понимала, что мы о ней разговариваем. Она мне тихонько улыбалась, а мне от каждой ее улыбки будто игла вонзалась в сердце. Юцин понемногу ко мне привык, хотя еще слегка побаивался: когда я его обнимал, он во все глаза смотрел на Цзячжэнь и Фэнся. В ту ночь я не спал, сидел с ними, слушал, как ветер шевелит камыш на крыше, смотрел, как свет луны пробивается сквозь дверную щель, и на сердце было так спокойно. То дотронусь до Цзячжэнь, то до детей и говорю себе: «Я дома».
У нас в деревне начали проводить земельную реформу. Мне выделили те пять му, что мне сдавал Лун Эр. Вот кому не повезло: всего-то четыре года и пробыл помещиком. Теперь партия отдала его землю бывшим батракам. А Лун Эр стал им угрожать, не признал своих ошибок. А когда ему не подчинялись, распускал руки. Народная власть объявила его «злостным угнетателем» и отправила в городскую тюрьму. Но он так и не понял, что времена изменились, продолжал выступать. Тогда его приговорили к расстрелу.
Лун Эр только перед смертью пал духом. Говорили, что он рыдал в три ручья и сказал знакомому: «Мне и в дурном сне присниться не могло, что меня расстреляют». Чурбан, он думал, что его пару дней подержат в тюрьме.
Его пустили в расход в соседней деревне, после обеда. Заранее вырыли яму. Сошелся народ из окрестных мест. Я тоже пошел посмотреть. Притащили Лун Эра. Перекинули веревку через шею и связали сзади руки. Он прошел мимо меня, тяжело дыша, и не заметил. Но вдруг через силу повернулся и крикнул сквозь всхлипы:
— Фугуй, я за тебя умираю!
Я испугался, протиснулся между людьми и отбежал подальше. Тут раздался выстрел, потом еще и еще, всего пять раз. По дороге домой я спросил односельчанина:
— Сколько человек расстреляли?
— Только Лун Эра.
Даже если у него было пять жизней, все равно ни одной ни осталось.
Я подумал: а ведь правда, не будь мы с батюшкой мотами, сегодня, чего доброго, расстреляли бы меня вместо Лун Эра. И с войны я вернулся целый. Значит, мы предков в правильном месте хоронили, и они нам помогают.
Когда я вернулся домой, Цзячжэнь шила тапки. Она взглянула на мое лицо и спросила, не заболел ли я. Я рассказал ей, о чем думаю. Она тоже побледнела. А потом я успокоился и говорю ей:
— Все судьба. У нас будет по пословице: «Кого смерть не взяла, тому повезет».
Цзячжэнь перекусила нитку и ответила:
— Мне везения не нужно. Лишь бы я каждый год шила тебе новую обувку.
Вдруг заметно стало, как она постарела. Я понял: она просит, чтобы мы больше не разлучались. И правда, когда семья вместе, можно и без везения обойтись.
Фугуй замолчал. Пока мы говорили, тень передвинулась, и мы оказались на солнцепеке. Фугуй, кряхтя, поднялся, потер свои колени и сказал:
— У меня с каждым годом везде все тверже, только в одном месте все мягче.
Я невольно рассмеялся и посмотрел на его свисающую мотню, к которой прилипло несколько травинок. Он тоже захихикал, довольный, что я понял его шутку. Потом повернул голову к буйволу и позвал:
— Фугуй!
Буйвол уже вышел из воды и щипал травку возле пруда, раздвигая спиной ивовые ветви. Старик позвал опять:
— Фугуй!
Буйвол забрался в воду задом, просунул голову между веток и смотрел на нас оттуда большими добрыми глазами. Хозяин сказал ему:
— Цзячжэнь и остальные давно работают, и тебе хватит прохлаждаться. Я знаю, ты не наелся, но кто ж тебя заставлял так долго сидеть в воде?
Потом повернулся ко мне:
— Нам, старикам, перед едой надо отдохнуть.
Он отвел буйвола в поле и запряг его в плуг. Я лежал под деревом на рюкзаке и лениво обмахивался соломенной шляпой. Отвисшая кожа на животе буйвола болталась бурдюком, совсем как мотня у Фугуя. В тот день я сидел под деревом до самого заката и слушал его рассказ.
Жили мы трудно, но спокойно. Дети росли, я старел. Я этого не замечал, Цзячжэнь тоже, только сил становилось все меньше. Но однажды я понес в город овощи на продажу и у бывшей шелковой лавки встретил знакомого. Он сказал мне:
— Фугуй, а ты поседел!
Мы не виделись всего полгода.
Я пришел домой и уставился на Цзячжэнь. Она смутилась, оглядела себя с ног до головы, посмотрела, нет ли чего у нее за спиной, и спросила:
— Ты что?
Я засмеялся:
— Ты тоже поседела!
Фэнся исполнилось семнадцать лет, она стала совсем барышня. Если бы она не была глухонемой, к нам слали бы сватов. Деревенские говорили, что она красивая, похожа на Цзячжэнь в молодости.
Юцину было двенадцать, он ходил в городскую начальную школу. Мы с Цзячжэнь долго думали, посылать ли его в школу — не было денег; Фэнся тогда было лет двенадцать. Хотя она помогала мне в поле, а матери по дому, все же мы должны были ее кормить. Вот я и предложил Цзячжэнь отдать ее в другую семью, а на скопленные деньги учить Юцина. Фэнся хотя и не слышала, а все понимала, смотрела на нас, когда мы о ней говорили. Мы ее жалели и всё откладывали это дело. Наконец пришло Юцину время учиться. Я попросил соседей узнать, не нужна ли кому девочка двенадцати лет на воспитание. Цзячжэнь я сказал:
— Если найдем хорошую семью, Фэнся там будет лучше, чем у нас.
Цзячжэнь кивает, а сама плачет. Мать есть мать. А ей объясняю:
— Фэнся на роду написано мучиться, тут уж ничего не поделаешь. А Юцину надо учиться, выйти в люди. Пусть хоть один из детей не бедствует.
Вернулись из поездки соседи и сказали, что Фэнся старовата. Если бы ей было раза в два меньше, желающие нашлись бы. Мы и надеяться перестали, но через месяц от двух семей пришло известие, что они хотят взглянуть на девочку. Одни хотели ее удочерить, другие — чтобы она ухаживала за двумя стариками. Мы с Цзячжэнь решили отдать ее бездетной паре — думали, что они будут лучше к ней относиться. Сначала Фэнся им приглянулась, но как только они узнали, что она глухонемая, сразу отказались. Муж сказал:
— Она, конечно, пригожая, но…
Не договорил и чинно удалился.
Пришлось нам отдать ее во вторую семью.
Тех не волновало, умеет она говорить или нет, главное, чтобы была работящая.
В день, когда Фэнся должны были забрать, я взвалил на плечо мотыгу и собрался в поле. Дочка тут же схватила серп и корзину и пошла за мной. Мы так работали уже несколько лет — я пахал, она рядом срезала траву. Когда я увидел, что она увязалась за мной, то толкнул ее, чтобы шла домой. Она на меня вытаращилась. Тогда я положил мотыгу, завел Фэнся в комнату, вынул у нее из рук серп и корзину и швырнул их в угол. Она все еще на меня глазела.
Цзячжэнь надела на нее темно-красную одежду, перешитую из маньчжурского платья, и стала застегивать пуговицы. Фэнся опустила голову и заплакала. Слезы капали ей на ноги.
Я сказал:
— Пойду в поле. Когда за ней придут, ты ее сразу и отдавай, ко мне не ходите.
В поле я принялся махать мотыгой, но никак не работалось. А как подумал, что больше не увижу, как Фэнся рядом со мной режет траву, у меня и вовсе не стало силы.
Тут я увидел, как вдоль поля идет старик лет шестидесяти и ведет за руку Фэнся. Она плачет, прямо вся трясется от рыданий, а звука нет. И все время рукой смахивает слезы — чтобы не мешали меня видеть. Старик улыбнулся и говорит: