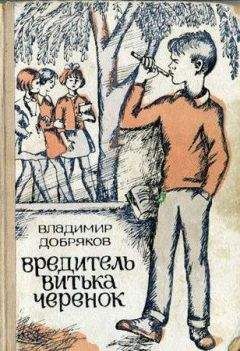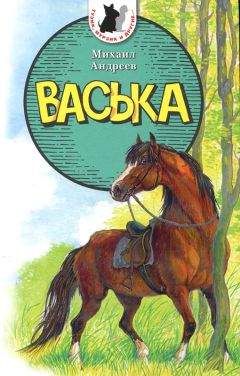Без интонаций, без интереса он спросил, кто же сейчас живет в их доме. Ведь кто-то живет?
– Конечно, – отозвалась женщина. – У вас поселили начальника гаража, он сам из Литвы. Но вещи ваши стоят, хоть, правда, я давно не была… Но, думаю, что вещи целы, они вам принадлежат.
Андрей стоял молча, и тетя Маня повторила:
– Я говорю, что сейчас многих вселяют в чужие дома, а потом возвращать будут. Вы-то, простите, надолго?
– Не знаю, – произнес Андрей. Сейчас он действительно ничего уже не знал. Он добавил: – Да нет, ненадолго. Проездом.
Тетя Маня кивнула, хоть ничего, наверное, не поняла.
– Можете зайти ко мне, я через два дома живу. Оленьку мою помните?
– Да, – сказал Андрей.
– На фронте. Как все. А у меня снимают площадь военные, муж с женой. Заходите, Андрюша.
Последнее: «Заходите, Андрюша» – она произнесла будто жалея его. Повернулась и тихо пошла, с хрустом приминая старую траву своими валенками. Андрей остался стоять. Полез в карман за папиросами, но вспомнил, что отдал их рыжему солдату, и пожалел. Не мешало бы сейчас закурить.
Он прислонился к стене дома. Чужого теперь дома. Бездумно глядел перед собой, чувствуя только пустоту и холод. Медленно дошел он до крыльца, чужого крыльца, взошел по чужим ступенькам и вошел в чужие сенцы. Взял мешок и оружие и, так держа их в обеих руках, пошел прочь по обочине Рязанского шоссе. Шел, все ускоряя шаг, будто боялся, что его могут окликнуть и спросить, а кто он такой и что он делал в этом доме.
– 7 -
Андрей возвращался в часть. Теперь он не только понимал, а болезненно чувствовал, что его родной город изменился. Не просто изменился, он стал похожим на все другие города, как похож на солдата солдат. Военный быт, недавняя близость фронта, ощущение пережитой опасности – все это наложило на облик города свой суровый отпечаток. Но изменились и люди, их лица, их походка. Не было просто гуляющих, торопились на смену, со смены, в магазин или по служебным делам.
Многие встречные тащили в руках или под мышкой дровину, доску или прямо в авоське кусок торфа.
Счастье, что кончилась очередная военная зима и можно вздохнуть свободнее. Но еще холодны апрельские ночи, и нужно подтапливать печку, готовить пищу, да и оставалась забота о будущей зиме. Она хоть и была за горами и до нее еще требовалось дожить, но по возможности сейчас надо было запасаться, собирать по крохам будущее тепло. Холод съедал все живое в человеке, сковывал его душу. Огонь же приносил облегчение, надежду. А как без надежды возможно жить и приближать победу над проклятым врагом?
Андрей подходил к станции, посмотрел на часы. У него были ручные часы, толстые и большие, марки Кировского завода. Ему вручили их как драгоценную награду при выпуске из ремесленного училища. Он был лучший ученик.
Это произошло незадолго до начала войны.
Андрей понял, что не использовал и трех часов из отпущенных ему двадцати четырех. Он уже мог видеть свой эшелон, солдат, сидящих перед вагонами. Живо представил лейтенанта Сергеева, сочувственные лица дружков и старшего сержанта Потапенко, который будет рад его возвращению больше остальных, готовый принять Андрея в свои железные объятия. Но не сержантской хватки боялся Андрей Долгушин. Боялся он расспросов, которые неминуемо будут, а еще больше не хотел сочувствия.
В нерешительности стоял он посреди полотна железной дороги. Неизвестно, сколько бы он колебался, но вдруг засвистела электричка, и он отпрянул назад. С визгом, грохоча колесами, пронеслись мимо Андрея вагоны, подняв кругом пыль. Он не испугался этого неожиданного, невесть откуда взявшегося поезда, а испугался другого: что едва-едва не вернулся обратно. Война есть война, от нее ничего не ждешь приятного. Завтра их отправят дальше. И будет он казнить себя за эти неиспользованные двадцать часов гражданской жизни на родине, которые подарила ему судьба. Что скажут другие – ладно, сам себе будешь говорить: «Вот, Андрей, дурище, был у себя, и ничего не узнал, и ничего не смог увидеть».
Андрей сел на камень и стал переобуваться, уже понимая, как он будет действовать дальше. Он снял сапоги, перемотал портянки, хотел шинель завернуть в скатку, но передумал. Время клонилось к вечеру. Забросил за спину мешок, винтовку повесил так, чтобы было удобно. Теперь он направился в сторону поселка Калинина.
Снова миновал рынок, без любопытства заглянул, чем тут люди промышляют. Какие-то тряпки, консервы, часы, зажигалки. Вынырнул из толпы почти перед баней, которую хорошо помнил. Сюда он ходил с матерью еще маленьким, в женское отделение, а мать таскала с собой тазик с бельем.
От бани Андрей свернул налево и мимо родильного дома (как говорили, тут он родился), мимо банка на углу, пересек центральный Октябрьский проспект и обогнул здание горсовета, высокое, приметное в городе здание с колоннами и красным флагом наверху. Андрей никогда не бывал внутри, но гордился, что в их городе такой красивый горсовет. А за горсоветом уже видать училище, белый многоэтажный Дом, сложенный из силикатного кирпича.
Здесь, в ремесленном, в родной ремеслухе, освоил он профессию токаря. Здесь жил целых два года. Практиковались они на заводе Ухтомского, в баню и в кино их водили строем по центральной улице. И когда они проходили в своих шинелях и форменных фуражках с блестящими буквами «РУ», ребятишки вслед кричали: «Рубли! Рубли!» Что ж, на втором году они зарабатывали первые трудовые свои рубли. Гордились и на это подпитывались, добавляя свой пай к небогатой столовской пище.
Теперь Андрей стоял перед дверью с плакатом наверху: «Мы куем победу над врагом!» Он вдруг решил не заходить, испугавшись, что и тут все переменилось, придется снова переживать знакомое чувство отчуждения и пустоты.
Медленно прошел вдоль окон, опытным ухом уловив ребячьи голоса. У того вон углового окна стояла его койка. Первое время после выпуска, когда жил в заводском общежитии, он часто приходил сюда, никак не мог отвыкнуть от своего училища.
Андрей вздохнул и пошел по направлению к поселку Калинина, где пробыл недолго. Через час он сидел в домике тети Мани, в теплой уютной комнате, с железной печуркой в углу. От этой печурки под потолок тянулась длинная труба.
Тетя Маня обрывком бумаги ловко разожгла в печке огонь, и в трубе загудело, заиграли блики на полу, а печка и нижняя часть трубы стали быстро накаляться. Тетя Маня поставила на горячее железо огромный зеленый эмалированный чайник и ушла в прихожую за картошкой. Андрей смотрел на чайник, на люстру со стеклянными трубочками, свисающими как сосульки, на толстый комод с зеркалом и двумя вазочками по краям, и вспоминал, что это все он когда-то видел или знал. Это были вещи из его довоенных воспоминаний, из почти забытой жизни. Как приятно их встретить! Пожалуй, только железная печка была точной приметой военного времени.
Тетя Маня вернулась с картошкой, объясняя на ходу, что прошлой осенью она накопала целых три мешка, но сейчас все кончилось и осталось немного на посадку. Но тут по радио говорили, что сажать, оказывается, можно не целыми клубнями, а срезами или глазками, остальное же употреблять в пищу.
– Ко времени объяснили, – произнесла тетя Маня с улыбкой. – Я уж на жареную воду перешла.
– На что? – спросил Андрей.
– Жареную воду, я так чай называю.
Тетя Маня сидела перед печкой, но все равно мерзла и куталась в черный большой платок. Было видно, как она худа.
Тут Андрей вспомнил про свой запас, полез в мешок и поставил на стол тушенку, хлеб и сахар. Все, что у него было. Но тетя Маня сразу замахала руками, требуя, чтобы он забрал обратно и немедленно, иначе она рассердится. Она и вправду сердилась, а Андрей уже не знал, как удобнее теперь забрать, потому что и забирать тоже было неудобно.
– Останется, я возьму, – произнес он стесненно. Тетя Маня пристыдила его:
– Нельзя, молодой человек, ходить в гости со своими продуктами. Я понимаю, сейчас война, многие так поступают. Но в нашем доме этого не водится. Как бы скудно мы ни жили, но мы ставим на стол то, что у нас есть. А эти штуки… чтобы с глаз долой.