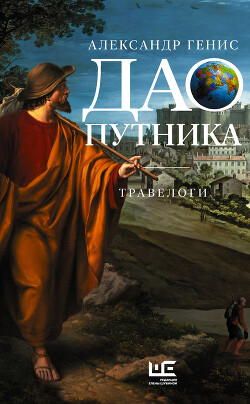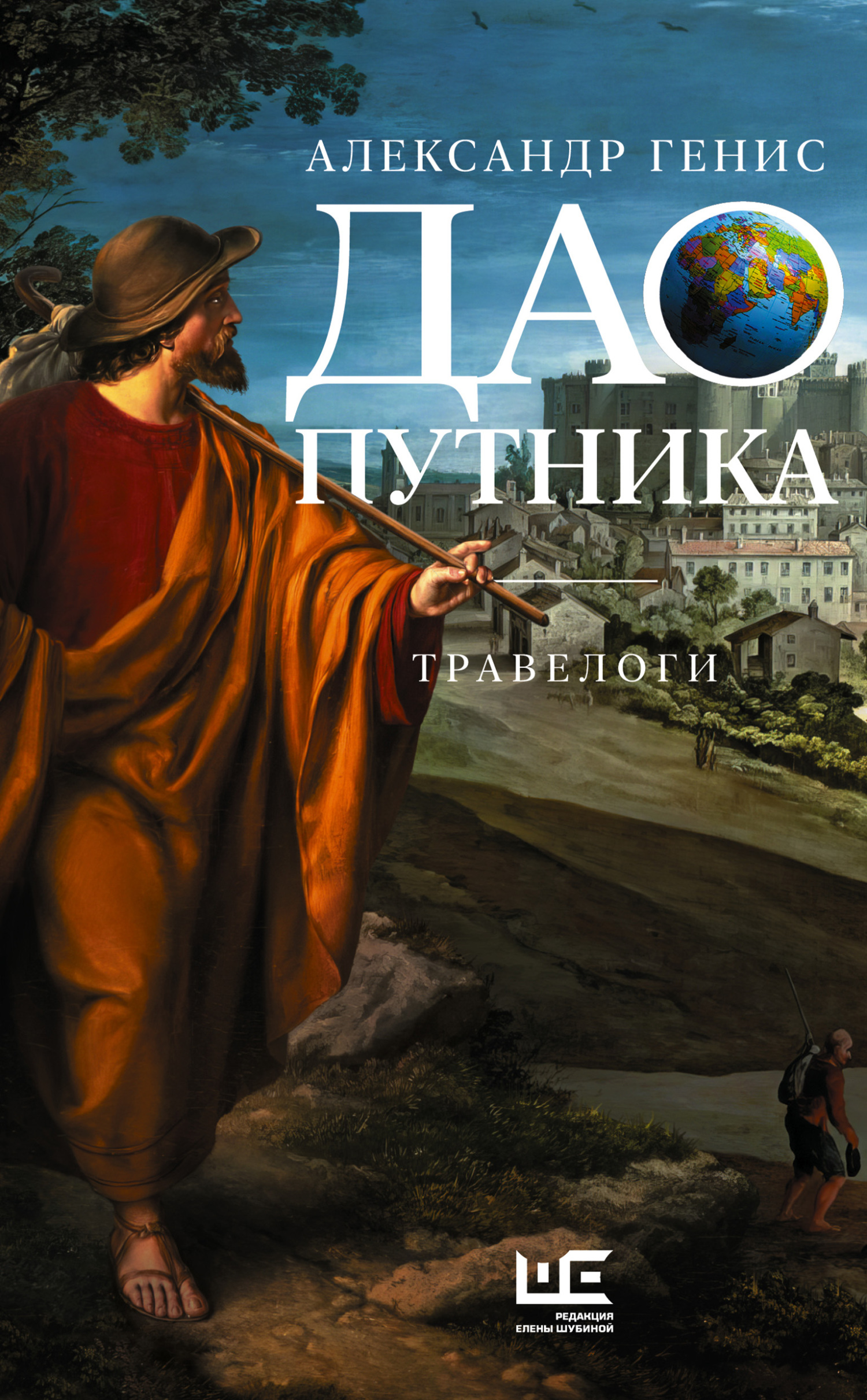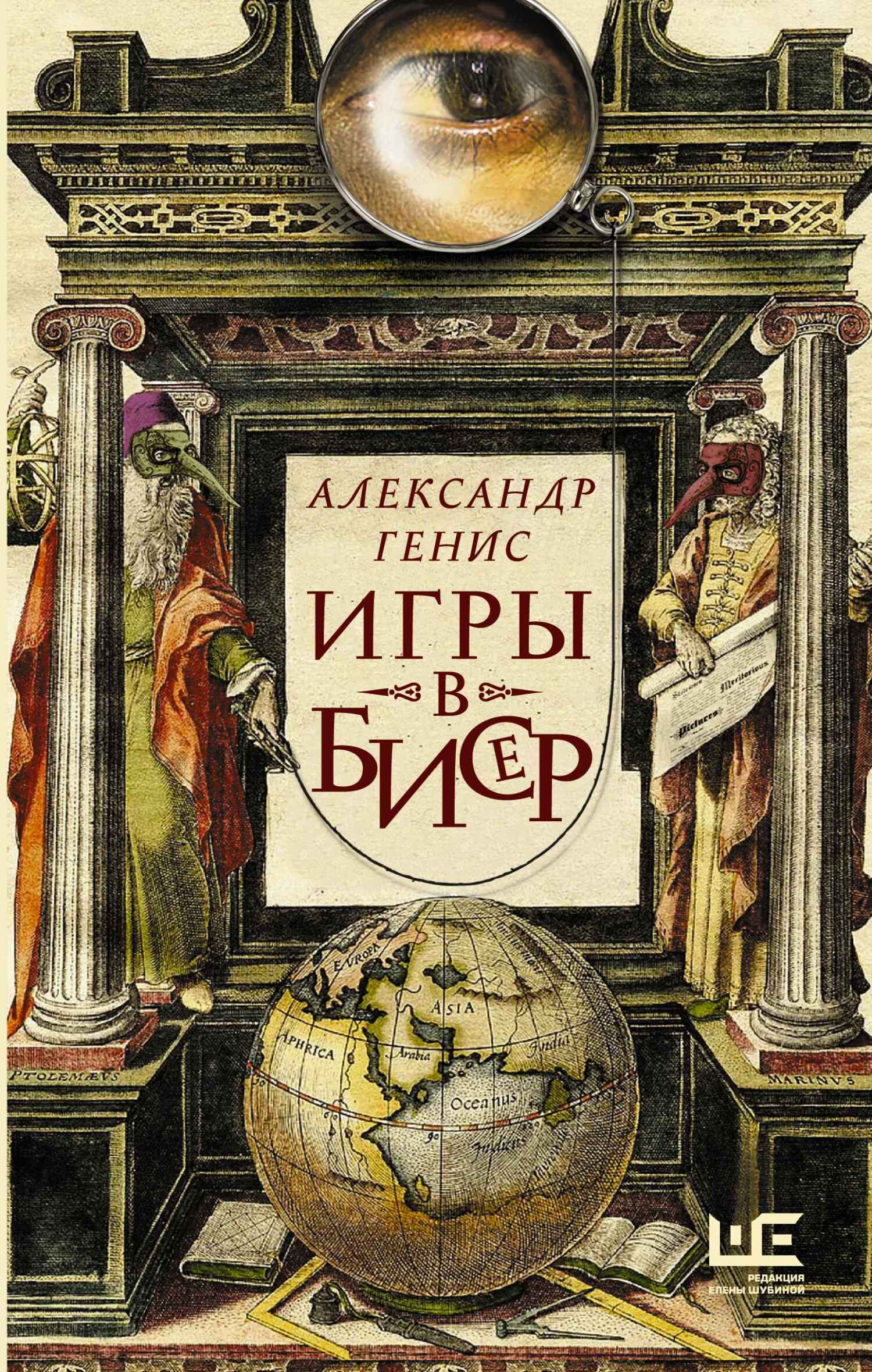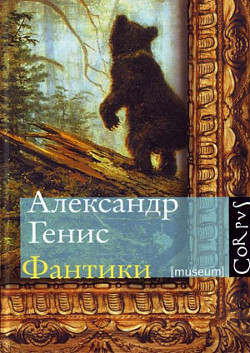– Кто была женой Генриха Седьмого? – спрашивает экскурсантов викарий, показавшийся мне цитатой из английского детектива.
Дождавшись унылого молчания, он сам ответил:
– Елизавета Йоркская. Запомните, что в карточной колоде именно ее изображает дама червей.
История оживилась, подростки тоже, и я позавидовал их школе, ибо моя обходилась цепью исторической необходимости, сковавшей Ленина со Стенькой Разиным.
Несмотря на веселую науку, лучше английских школьников островную хронику знают американские пенсионеры. Во всяком случае, те старушки с голубыми буклями, что сравнивали надгробия Вестминстерского аббатства с привезенным из дома генеалогическим деревом.
В Америке это бывает: недостаток своей истории компенсируют избытком чужой, что позволяет процветать геральдическому рэкету. От него я узнал, что принадлежу к славному роду ирландских пивоваров, но Гиннесс, не признав во мне родича, отказал в скидке, и я перешел на светлый эль.
Английский паб – аристократ народа. Обходя родословную нынешней династии, он не выносит нуворишей и гордится прошлым, навязывая его прохожим. Вывески пабов – самая живописная деталь лондонской улицы, которая, в отличие от парижской, часто бывает безликой. Зато паб не бывает скучным.
– Экзотическим может быть только заурядное, – утверждал Честертон, – английский собор не слишком отличается от континентального, но неповторим абрис лондонского кэба.
Сегодня кэбы превратились в такси, сохранив ту же горбатость, а пабы не изменились с тех пор, когда король приказал хозяевам заменить универсальную зеленую ветку индивидуальной вывеской. Поскольку тогда почти никто не умел читать, названия придумали такие, которые мог изобразить столяр и художник. Нарядные, как “Белый лев”, фантастические, как “Единорог”, или нелепые, как упомянутый Джеромом “Свинья и свиток”, все пабы хороши. Неудивительно, что в Лондоне пьют пиво, как в Риме – кофе: не когда хочется, а когда можно.
Лучшая часть британского меню, английское пиво (теплое, без пузырьков, накачанное ручным насосом) отличается от европейского тем, что его пьют стоя. Поэтому не так просто вклиниться в веселую толпу, клубящуюся вдоль стойки. Это особое искусство, требующее смеси интуиции и такта. Англичане с ней рождаются, нам надо учиться. Как обмасленная игла на воде, ты протискиваешься, никого не задев локтем и взглядом. Но и достигнув цели, не торопись ею завладеть, окликнув бармена. Это как у Булгакова: не просите, сами дадут и сами нальют, когда подойдет невидимая чужеземцу, но бесспорная для своих очередь, без которой в Англии вообще ничего не происходит. Паб – недорогой урок цивилизации, и я практиковался, начиная с завтрака, радуясь, что Англия предпочитает некрепкий эль безжалостному, как я знаю по старому опыту, виски Шотландии.
После пивных и королей мне больше всего понравились в Лондоне дети, особенно те, которых я встретил в окопах Военного музея империи. Сюда привозят молодежь Евросоюза, надеясь превратить его в одну страну, чтобы навсегда покончить с мировыми, а в сущности междоусобными, войнами. О Первой рассказывают мемориальные окопы. Тесные, с восковыми трупами и кислой вонью пороха. Славой здесь не пахло, подвигами тоже.
Зато героизма хватало в бомбоубежище эпохи блица. Как только я уселся рядом с примолкшими ребятами, свет погас и начались взрывы. В темноте звучали голоса военных лет. Подбадривающие и ворчащие, они смогли заглушить бомбежку лишь тогда, когда все запели хором. Тогда так делали всюду, кроме метро. По ночам в подземке хранили тишину, чтобы люди выспались перед работой. Ведь и в блиц затемненный Лондон жил хоть и на ощупь, но как всегда – в пабах, театрах, даже в нетопленой Национальной галерее, где среди пустых рам (картины спрятали в шахту) лучшая пианистка Англии давала концерты, не снимая пальто.
В 1940-м, встречая Рождество среди взрывов, в столицу завезли карликовые, чтобы влезли в бомбоубежища, елки.
В Лондоне любят вспоминать о блице, хотя он и уничтожил изрядную часть города. Героем его сделала даже не война, а ее будни. Король делил их со всей столицей.
– Теперь, – сказал он после налета, разрушившего часть дворца, – я могу смотреть в глаза жителям разбомбленного Ист-Энда.
Всю войну в Букингемском парке выращивали капусту.
По следам Шерлока Холмса
Развиваясь, эмбрион повторяет ходы эволюции, поэтому всякое детство отчасти викторианское.
Впрочем, ребенком я относился к Холмсу прохладно. Мне больше нравился Брэм. С ним хорошо болелось. Могучие фолианты цвета горького шоколада давили на грудь, стесняя восторгом дыхание. Траченный латынью текст был скучным, но казался взрослым. Зато он пестрел охотничьими рассказами: “С коровой в пасти лев перепрыгивает пятиметровую стену крааля”. О, это заикающееся эстонское “а”, экзотический трофей – от щедрот. Так Аврам стал Авраамом и Сара – Саррой. Но лучше всего были сочные, почти переводные картинки. Они прикрывались доверчиво льнущей папиросной бумагой.
Холмса я полюбил вместе с Англией, скитаясь по следам собаки Баскервилей в холмах Девоншира. Болота мне там увидеть не довелось – мешал туман, плотный, как девонширские же двойные сливки, любимое лакомство эльфов. Несколько шагов от дороги, и уже все равно куда идти. Чтобы вернуться к машине, мы придавливали камнями листы непривычно развязной газеты с грудастыми девицами. В сером воздухе они путеводно белели.
В глухом тумане слышен лишь звериный вой, в слепом тумане видна лишь фосфорическая пасть. Трудно не заблудиться в девонширских пустошах. Особенно – овцам. Ими кормятся одичавшие собаки, небезопасные и для одинокого путника. В этих краях готическая драма превращается в полицейскую с той же естественностью, что и в рассказах Конан Дойла.
Его считали певцом Лондона, но путешествия Холмса покрывают всю Англию. Географические указания так назойливо точны, что ими не пренебречь. Как в исландских сагах, на страницы Холмса попадают только отмеченные преступлениями окрестности.
Преступление – мнемонический знак эпоса. Цепляясь за них, память становится зрячей. Ей есть что рассказать. Срастаясь с судьбой, география образует историю. Топонимическая поэзия рождает эпическую.
– Я ничего не читаю, – признавался Холмс, – кроме уголовной хроники и объявлений о розыске пропавших родственников.
Этот короткий перечень неплохо описывает “Илиаду” и “Одиссею”.
Главное свойство гомеровского мира – фронтальная нагота изображенной жизни. У эпоса нет окраины. В его сплошной действительности все одинаково важно: и щит, и Ахилл, и прялка. В пронзительном свете эпоса еще нет тени, скрывающей детали. Мир лишен подробностей, ибо только из них он и состоит. Неописанного не существует. Всякая деталь – часть организма, субстанциальная, как сердце.
Гомер не умел отделять частное от общего, Холмс – не хотел. Подробности наделяли его гомеровским – пророческим – зрением: он видел изнанку вещей, знал прошлое и предвидел будущее.
Жанров без подсознания не существует. У детективов оно разговорчивей других. Детектив напоминает сон. Те, кто толкует его по Фрейду, успокаиваются, узнав убийцу. Приверженцам Юнга достается целина жизни – правдивые окраины текста.
Постороннее в детективе наливается уверенной ртутной тяжестью. Это не наблюдения за жизнью, а ее следы. Как кляксы борща на страницах любимой книги, они – бесспорная улика действительности.
Велик удельный вес случайного на полях детективного сюжета. Самое интересное тут происходит за ойкуменой сюжета. Вопрос в том, сколько постороннего способны удержать силовые линии преступления – радиация трупа.
Мы читаем рассказы о Холмсе, выуживая не относящиеся к делу подробности. В них – вся соль, ради извлечения которой мы не устаем перечитывать Конан Дойла.
Обычные детективы, как туалетная бумага, рассчитаны на разовое употребление. Только Холмс не позволяет с собой так обходиться. У Конан Дойла помимо сюжета все бесценно, ибо бессознательно. В других книгах эпоха говорит, в этих – проговаривается. У XIX века не было свидетеля лучше Холмса – мы чуем, что за ним стоит время.