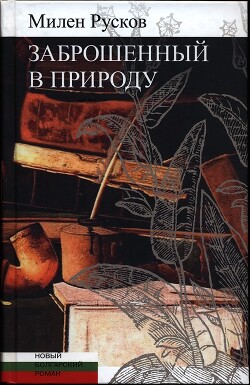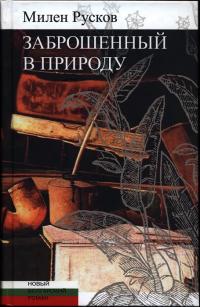— Да какая разница, что будет иметь значение завтра? — отмахнулся я. — Carpe diem. Лови момент сегодня. А что будет завтра — неведомо, как говорят арабы.
— Ну да, так они говорят, а видишь, что с ними сталось, — ответил доктор, указав сначала на берег Андалусии, а потом на африканский берег. — Завтрашний день непременно наступит, не сомневайся. Так всегда происходит.
Я не был в этом убежден, но предпочел промолчать. Меня и без того уже выворачивало наизнанку.
— Если тебя будет рвать, — сказал доктор Монардес, — будь осторожен. — И он указал мне на корабельный борт рядом с собой. — Это тот самый гвоздь, на который напоролся Васко да Герейра.
— Да что вы! — удивился я. — Он до сих пор здесь?
— В Испании, дружок, никогда ничего не теряется, — глубокомысленно произнес доктор и отправился к себе в каюту.
Англичане — приятные люди, хотя, возможно, и немного глуповаты. Во всяком случае, они мне кажутся глупее испанцев, быть может, и португальцев, да даже и неотесанных болгар, хотя последнее я утверждать не берусь. Чтобы казаться умными, они беспрерывно соревнуются в остроумии, хотя юмор у них довольно тривиальный. Можно сказать, что они прямо-таки излучают серую посредственность. Но я предпочитаю их испанцам. Испания, залитая солнцем, как бы купающаяся в свете, по сути, очень мрачная и горькая страна, а Англия, окутанная туманом и залитая дождем, выглядит зеленой и веселой. Во всяком случае, гораздо более мягкой и ласковой. Англичанину ты многое можешь сказать, и он продолжит строить из себя умника и упражняться в остроумии, а испанец, не говоря ни слова, просто набросится на тебя с ножом. Он считает это чувством гордости, но я — иностранец и отлично понимаю, что к чему. Это больное честолюбие, огромная самовлюбленность и вспыльчивость. С испанцем нужно держать ухо востро. Он опасен, и даже когда проявляет сердечность, его нельзя назвать веселым.
А англичане — люди веселые. Это мне особенно импонирует, так как я большой любитель бурлеска. Как говорит доктор Монардес, то, что в Испании считается бурлеском, в Англии воспринимают как трагедию. И это действительно так. В Испании ты не увидишь подобное английскому бурлеску. В Англии театр процветает, бурлески идут на всех сценах. Лопе де Вега у них считается комиком! Да какой же он комик?! Надо приехать в Англию, чтобы понять, что значит бурлеск или фарс!
Сеньор Фрэмптон познакомил нас с неким господином по имени Бен, который оказался человеком известным и большим знатоком театра, любителем комедии, в особенности, бурлеска. Он-то и поводил нас по театрам. Вчера, например, мы были в «Глобусе» и смотрели трагедию. Я не против трагедий, потому что, как я уже сказал, английские трагедии подобны испанским бурлескам. Человек всегда может проводить время весело и с толком, независимо от того, что он смотрит.
Поскольку нас тут считают талантами, мы уселись на боковых стульях прямо на сцене. Согласно здешним представлениям, талант — это человек, который, как сказал Бен Джонсон, приведший нас в театр «Глобус», одет в красивые одежды, у него красивой формы ноги, белые руки, завитые волосы, ухоженная борода, есть шпага и шесть пенсов, чтобы заплатить за это место. Мы отвечали почти всем этим требованиям и прежде всего — последнему.
Между прочим, здесь все таланты курят, правда, трубки. Это дань плебейскому обычаю, который они переняли у анабаптистов — мошенников-голландцев. Только мы с доктором Монардесом курим сигариллы. Поэтому сразу, как только мы вошли, слуги поставили на столики перед нами по одной свече. Все стали раскуривать трубки, а мы с доктором Монардесом — сигариллы. Тем временем действие началось. Мы были окутаны клубами дыма, над партером тоже стелился дым, поскольку и там многие закурили трубки. За ароматными клубами я почти не видел артистов, хотя отлично их слышал.
— Наш храбрый Гамлет убил Фортинбраса, — донеслось до меня со сцены, и я напряг глаза, чтобы увидеть происходящее, но сумел разглядеть лишь две фигуры, которые что-то говорили, объятые клубами дыма, точно ангелы, спустившиеся на землю.
В этот момент кто-то похлопал меня по спине. Я обернулся и увидел прислужника.
— Хотите фундук, сеньор? Яблоки, орехи?
— Мне — яблоки и фундук, — сказал сеньор Джонсон, сидевший рядом.
— Мне тоже, — сказал я.
— Слушай, Гамлет, идет молва, что я, уснув в саду, ужален был змеей; так ухо Дании поддельной басней о моей кончине обмануто [4] — донеслось до меня в этот момент…
Но я не видел на сцене никакой женщины.
— Кто такая Дания? — обратился я к сеньору Джонсону.
Дания… Это… Ай, не все ли равно… — махнул он рукой, раскуривая трубку и с наслаждением затягиваясь ароматным дымом. — Клянусь вот этой свечой, я не понимаю тех ненормальных, которые пришли, чтобы смотреть игру этих олухов, играющих, как продажные корабельные девки… (Надо заметить, что так Джонсон выражался везде, куда бы мы ни приходили). — Хорошо, хоть тут не поют, — продолжил он. — Их музыка отвратительна… Уши вянут слушать… А их монологи… жалкая картина, как и те люди, которые их пишут… несчастные поэты… Клянусь дымом, что если бы не табак… сдается мне… смрад, исходящий от них, просто бы отравил меня… я бы не решился даже приблизиться к двери театра…
С этими словами он вынул трубку изо рта и сжевал несколько орешков.
Лучше посетить пятнадцать тюрем или пару десятков больниц, чем хоть раз рискнуть близко подойти к этим артистам. Хотите еще орешков, сеньор?
— Нет, спасибо, — ответил я. — У меня есть.
В этот момент я услышал:
— Офелия? — В твоих молитвах, нимфа, всё, чем я грешен, помяни.
Я пристально всмотрелся в табачный туман и увидел неясные очертания женской фигуры, робко приближающейся к мужчине, который сказал эту фразу. В этот момент я едва не простился с жизнью. Сплюнув на пол и повернувшись к сеньору Джонсону, чтобы что-то ему сказать, я чуть было не напоролся на шпагу, кончик которой, к счастью, венчала долька яблока. Насколько я понял, какой-то тип наколол яблоко и решил дать его человеку, сидевшему по другую сторону от доктора Монардеса, при этом ему пришлось протянуть его через сеньора Джонсона и еще одного зрителя.
— Эй, приятель, ты чуть было не продырявил меня, — выкрикнул я.
— Тысячу извинений, сэр, — прокричал он мне в ответ. — Это мистеру Перки, что рядом с вами.
Я отпрянул назад, и в тот же миг мистер Перки, в свою очередь, протянул в обратном направлении шпагу, на которую был насажен, как мне показалось, кусочек потрошков. В первый момент я было решил, что из-за дыма мои глаза плохо видят, но поскольку шпага прошла прямо у меня перед носом, я уловил характерный запах, а потом заметил, что и доктор Монардес держит в одной руке сигариллу, а другой сжимает свой испанский нож, на который также были насажены потрошки. Доктор невозмутимо ел их, не сказав мне об этом ни слова.
— Откуда взялись эти потрошки? — спросил я Бена.
— Слуги принесли. По два пенса. Хочешь?
— Не откажусь, — ответил я.
— Эй, парень, — выкрикнул сеньор Джонсон и поднял руку.
— Кто меня зовет? — послышался голос из клубов табачного дыма.
— Подойди сюда… Сюда, — прокричал Бен.
— …таков вопрос. Что благородней духом — покоряться пращам и стрелам яростной судьбы, иль ополчасъ на море смут сразить их противоборством? Умереть, уснуть…
— Нет, нет, не покоряйся! Борись! — выкрикнул мистер Перки. Сеньор Джонсон пронзительно свистнул. Спустя мгновенье свистел уже весь зал. Я тоже свистнул. И партер отозвался свистом. Тот, на сцене, продолжал говорить, но слов было не разобрать. Потом откуда-то донеслось улюлюканье. И все стали улюлюкать. Вдруг из партера послышался рев истинного левиафана:
Тут же несколько человек в партере поддержали его. Затем заревел весь партер. В среде талантов также послышались голоса:
— Уууу! Уууу!
— Уууу! Уууу! — закричал и я.