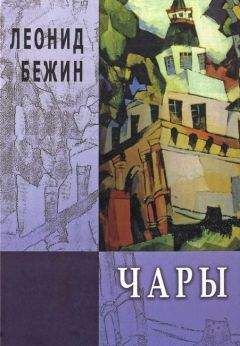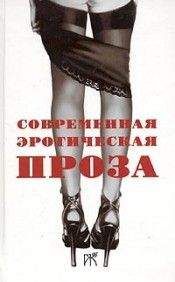Эта вмерзшая в ледяные шарики черная шерсть от валенок и есть мои скудные пятидесятые. Пятидесятые, вызывающие во рту привкус зимнего двора, помоек, голубятен, ржавых и скрипучих ворот на столбах с облупившейся штукатуркой, дровяных сараев с заснеженными крышами, с которых мы прыгали — летишь, и ветер свистит в ушах — в горбатые, присыпанные сверху колотым льдом сугробы. Впрочем, обо всем этом можно не говорить: достаточно черных шерстинок. Можно не говорить и о фуражках с молоточками, беретах, муфтах, пирожных, старьевщиках, ни о чем не рассказывать, ничего не описывать — только шерстинки, вмерзшие в ледяные шарики, и это будут пятидесятые годы; и это будет моя жизнь, моя единственная половинка… Рассказать, пожалуй, стоило бы лишь о студебеккере и любви к Шурочке. Стоило хотя бы потому, что в этом заключалось нечто проживаемое мною — заключалось так же, как и в сдобно пахнущих валенках, поставленных к печке, лужице от растаявших льдинок и снятых с валенок калошах, красных изнутри и черных снаружи.
Шутка, но мы уверовали
В самом конце мая, когда хромая дворничиха в брезентовом фартуке и рукавицах начинала поливать двор из резинового шланга, змеившегося по мокрой земле, мы заказывали грузовик для перевозки вещей. Грузили в него старенькие, расшатанные стулья, столы и шкафы, пару закоптившихся кастрюлек, чайник с отбитым носиком — не новое же грузить — и ехали на нашу половинку. Хромая дворничиха поливала двор, в воздухе разносился сладкий дурман сирени, по ночам орали коты, днем на окнах просушивали подушки, на суку большого тополя вешали качели, а рядом вкапывали столик для домино. Но все это для меня словно и не существовало, словно не доходило до моего сознания, как не доходят до ныряльщика звуки с поверхности воды, и я всецело находился под властью одной лишь жгучей, лихорадочной, почти маниакальной мысли: когда же? Когда же я, наконец, проснусь утром, зная, что, сегодня, за нами приедет студебеккер?!
Это слово первым произнес отец, отвечая на мои настойчивые, дотошные вопросы о том, какую именно он заказал машину. Произнес явно в шутку, поскольку послевоенные студебеккеры давно исчезли с московских улиц так же, как и мерседесы, форды, гудзоны и линкольны с их гудком, напоминающим лошадиное ржание. Исчезли, и на улицах уже нельзя было встретить щеголеватых, галантных польских офицеров, учтиво прикладывающих два пальца к квадратным «конфедераткам» на голове. У американского посольства, находившегося после войны на Манежной площади, около гостиницы «Националь», а затем переселившееся на Садовое кольцо, — закуривающих кружком, смеющихся американцев в ботинках на толстой рифленой подошве, а в Охотном Ряду — важно прогуливающихся англичан.
Но мы уверовали в студебеккер, и это магическое слово вот уже несколько дней произносилось у нас дома на все лады, с разными оттенками голоса, с разными выражениями лица и жестами такими же разными, то подчеркивающими значительность предстоящего события: «Да, да, мы скоро переезжаем! На среду уже заказан студебеккер!» — то призывающими отрешиться от всех прочих забот и целиком посвятить себя переезду на дачу: «Нет, нет, мы скоро переезжаем… на среду… уже заказан…» Да, да… нет, нет… — все причудливо смешивалось, и распоряжения, отданные на субботу, отменялись в воскресенье, и то, что было полностью готовым к понедельнику, оказывалось вовсе не готовым во вторник. И приходилось снова распаковывать коробки и развязывать тюки, снова все пересматривать и пересчитывать, докладывать недостающую ложку, чашку или тарелку и — в который раз! — запаковывать и завязывать, принося тем самым еще одну жертву грозному и ненасытному идолу с языческим именем — Студебеккер.
Но если взрослые вскоре безнадежно уставали от жертв и, мечтая избавиться от ненасытного идола, произносили с обреченным вздохом: «Когда же все это кончится!» — то я без устали шептал его имя, и оно звучало во мне как молитва: студебеккер-студебеккер… студебеккер… Это было очень важно, что за нами приедет не просто грузовик, а именно он, грозный и величественный, загадочный и непостижимый студебе… Порою мне даже не хотелось произносить это слово, чтобы спрятать его, утаить, заставить принадлежать лишь мне одному. И тогда — не произнося ничего вслух — я, словно фокусник с волшебной палочкой, неким мысленным прикосновением превращал в студебеккер мать, кормившую меня манной кашей и следившую за тем, чтобы с тарелки наконец, исчез ее последний дотаивавший островок, и отца, который после завтрака готовился к урокам за письменным столом (в ту пору он преподавал в школе). Превращал скрипевший подо мною фанерный стул, белую изразцовую печку с чугунной дверцей, окно с серыми клочьями ваты, оставшимися после зимы, завалившийся набок диван, покрытое плюшевым ковриком кресло — все было студебеккером. А сам я, слизывавший остывшую манную кашу с тяжелой мельхиоровой ложки, одновременно превращался и в гордо восседающего за рулем шофера, и в ревущий львиным рыком мотор, и в крутящиеся колеса.
Сегодня!
Наконец наступала среда — тот самый долгожданный день, когда, проснувшись утром, я уже знал: сегодня! Именно сегодня произойдет то, к чему стремились, к чему готовились, чего с таким нетерпением ждали, а сегодня оно произойдет. Произойдет, произойдет — немыслимо себе представить. Настолько немыслимо, что даже думаешь: а может быть, лучше, чтобы оно не происходило?! Зачем ему происходить, если оно и так есть, и то, что тебя переполняет, радует и мучит, от чего тебя лихорадит и бросает в жар, — это именно оно, уже существующее в тебе и не требующее воплощения в мире реальных предметов. Воплощение же только похитит твой восторг, отнимет частичку того блаженства, которое ты испытываешь, и ты почувствуешь себя счастливцем, обманутым собственным счастьем.
Конечно, возможность обмануться меня пугала, и поэтому с утра я бывал, раздражителен, капризен и даже плаксив, чем навлекал на себя упреки взрослых. Но точно так же, как я не удержался бы от соблазна заглянуть в таинственную и страшную дверцу, случайно обнаруженную в стене под обоями, я не мог устоять перед желанием, чтобы это, наконец, сбылось и неведомый студебекер с пирамидой вещей, покачивающейся под брезентовым верхом (так я себе его весьма расплывчато представлял), отвез нас на дачу.
Пускай я даже разочаруюсь, но лишь бы заглянуть в дверцу. Лишь бы заглянуть, а там не важно, что за нею не окажется ничего, кроме входа в соседнюю комнату, совсем не страшную и не таинственную, а, напротив, — совершенно привычную и обыкновенную. Пускай — я не пожалею, потому что разочарование наступит после. До этого же будет миг — всего один миг, — когда я буду медленно тянуть на себя дверцу, с трудом отрывая ее от дверного косяка, и с замиранием сердца думать: а что же за ней?! Потайной лаз, заваленный замшелыми камнями, или обрывки веревочной лестницы, покачивающейся под потолком, — не важно: можно думать все что угодно! Главное, — в самом этом миге заключена награда за разочарование, и она дается раньше. Сначала — награда, а потом — разочарование. Поэтому пускай сбывается то, чего я так нетерпеливо жду, и пускай сбывшееся сиротливо перекатывается в ожидаемом, как маленький шарик на дне большой коробки.
Иными словами, с утра я бывал, капризен и плаксив, но при этом старался таким образом перемещаться по комнатам, чтобы с любого места видеть окно. Это было моей постоянной заботой — непременно видеть окно и в раздвинутые занавески — двор, дощатый забор палисадника, окружающий взрыхленные грядки, выгнутую решетку ограды и ворота на кирпичных столбах, в которые должен был въехать он, студебеккер. Въехать задним ходом и осторожно подрулить к подъезду. Он, он, он, грозный и величественный, загадочный и… Разве мог я пропустить такой момент! Поэтому я одевался, стоя лицом к окну, и завтракал, сидя лицом к окну. И перемещался по комнатам… И разговаривал с взрослыми… «Повернись же ты ко мне, наконец! Куда ты все время смотришь?!» — негодовала мать, разворачивая меня за плечи и заставляя смотреть ей в лицо в подтверждение того, что я ее слышу и обещаю выполнить все ее приказания. Я подчинялся, но, даже глядя в лицо матери и силясь убедить ее в своей раболепной преданности, умудрялся не упускать из виду окно, удерживать его краешком глаза, присматриваться, принюхиваться и сторожить, как лисица до наступления сумерек сторожит пролом в заборе, сквозь который можно проникнуть в курятник.
И вот ожидаемое сбывалось, и сначала я слышал, улавливал чутким, воспаленным слухом звук, который нельзя было спутать ни с чем, кроме приближающегося шума автомобильного мотора. Затем в моем сознании обозначалась мысль, что это не просто шум проезжающей мимо по улице обычной машины, а мотор студебеккера, который сбавляет скорость, разворачивается и задним ходом подруливает к подъезду. Именно так, как я себе и представлял: разворачивается и задним ходом… Боковая дверца при этом конечно же приоткрыта, и шофер, чья правая рука лежит на баранке, выглядывает из кабины, чтобы не задеть за столбы ворот, забор палисадника и шесты, поддерживающие бельевые веревки.