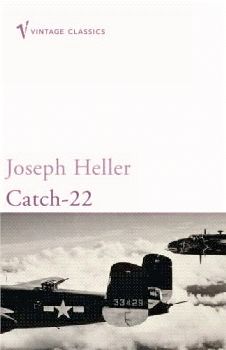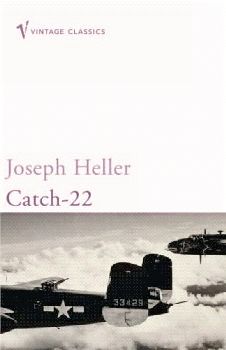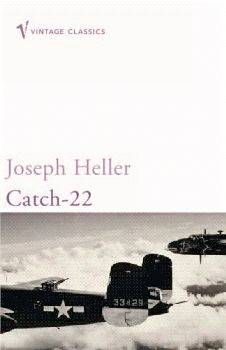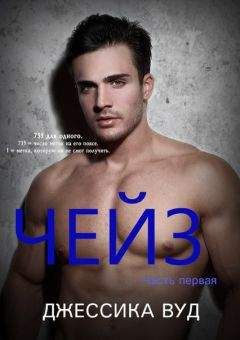Босой мальчик в легкой рубашке и легких драных штанах вынырнул из темноты. Этот черноволосый мальчик отчаянно нуждался в стрижке, туфлях и носках. Его болезненное лицо было, бледным и печальным. Он брел по мокрому тротуару, и ноги его противно чавкали по лужам. Йоссариана охватила такая пронзительная жалость к его бедности, что ему захотелось даже убить этого мальчика, потому что он напоминал других бледных, печальных, болезненных мальчиков, которые в ту же ночь вот так же бродили по Италии и так же нуждались в стрижке, туфлях и носках. Он заставил Йоссариана вспомнить всех калек, продрогших и голодных мужчин и женщин, всех молчаливых, покорных, набожных матерей с глазами кататоничек, которые в эту же ночь, под тем же промозглым дождем, словно животные, кормят своих младенцев, тыча им в рот стылое бесчувственное вымя. Коровы, а не люди… И едва он успел об этом подумать, как мимо него проковыляла кормящая мать с завернутым в черное тряпье младенцем. Она тоже напомнила ему обо всех больных мальчиках в легких рубашках и легких рваных штанишках, напомнила обо всей дрожащей, отупляющей нищете в мире, который еще никогда так и не дал достаточно тепла, пищи и справедливости никому, кроме горстки самых изворотливых и бессовестных.
«О гнусный мир! — размышлял Йоссариан. — Сколько обездоленных людей бродит в эту же ночь даже в преуспевающей Америке, сколько, и там еще лачуг, вместо домов, сколько пьяных мужей и избитых жен, сколько запуганных, обиженных и брошенных детей! Сколько семей голодает, не имея возможности купить себе хлеб насущный! Сколько сердец разбито! Сколько самоубийств произойдет в эту ночь! Сколько людей сойдет с ума! Сколько землевладельцев и ростовщиков-кровососов восторжествует! Сколько победителей потерпело поражение! Сколько счастливых финалов оказалось на самом деле несчастливыми! Сколько уважаемых людей продало свои души подлецам за мелкую монету, а у скольких души-то и вовсе не оказалось! Сколько прямых дорог оказалось кривыми, скользкими дорожками! И если все это сложить и вычесть, то в остатке окажутся только дети и еще, быть может, Альберт Эйнштейн да какой-нибудь скульптор или скрипач».
Йоссариан шел один на один со своими мучительными мыслями, чувствуя свою отчужденность от мира, и не мог выкинуть из головы терзавший его образ босого мальчика с болезненным цветом лица.
Йоссариан вспомнил, что у него нет увольнительной. Он двинулся на звук приглушенных расстоянием голосов, доносившихся из густой тьмы. Вдоль широкого, мокрого от дождя бульвара через каждые полквартала стояли невысокие изогнутые фонарные столбы, тусклый свет ламп причудливо мерцал сквозь клубящийся коричневатый туман. Из окна над головой Йоссариан услышал несчастный женский голос, умолявший: «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!» Мимо Йоссариана, опустив глаза, прошла печальная молодая женщина в черном дождевике. Густая прядь черных волос падала на лоб. Через квартал, у здания министерства общественных работ, пьяный молодой солдат прижимал к рифленой коринфской колонне пьяную даму, а трое его пьяных товарищей по оружию сидели на ступенях и смотрели. У ног их стояли бутылки с вином.
«Пожалуйста, не надо, — упрашивала пьяная дама. — Я хочу домой. Пожалуйста, не надо». Когда Йоссариан подошел поближе, один из сидевших окрысился на Йоссариана, выругался и запустил в него бутылкой. Бутылка упала далеко от Йоссариана и, глухо звякнув, разбилась вдребезги. Йоссариан продолжал невозмутимо идти тем же неспешным шагом, засунув руки в карманы. «Ну ладно, крошка, — услышал он сзади решительный голос пьяного солдата. — Сейчас моя очередь». «Пожалуйста, не надо, — упрашивала пьяная дама. — Пожалуйста, не надо». На другом углу, из глубины непроницаемо-темной узкой боковой улочки, донесся таинственный звук, который нельзя было ни с чем спутать. Кто-то сгребал снег. Размеренный, надсадный, хорошо знакомый скрежет железной лопаты о цемент заставил Йоссариана съежиться от ужаса, когда он сошел с тротуара, чтобы пересечь этот зловещий переулок. Йоссариан прибавлял шагу, покуда неотвязный, столь неуместный в Риме звук не затих позади.
Теперь Йоссариан понял, где он находится. Если идти, никуда не сворачивая, то скоро можно дойти до пересохшего фонтана в центре бульвара, откуда только семь кварталов до офицерской квартиры. Вдруг прямо впереди из темноты прорезались рычанье и грубые голоса. В это время потухла лампочка на угловом столбе, все предметы будто качнулись, и разлилась тьма. На другой стороне перекрестка человек бил собаку палкой. Он напоминал приснившегося Раскольникову человека, который хлестал лошадь кнутом. Напрасно Йоссариан изо всех сил старался ничего не видеть и не слышать. Собака скулила и визжала в животной истерике. Привязанная за растрепанный обрывок веревки, она, извиваясь, ползала на брюхе и не сопротивлялась ударам, а человек все равно бил и бил ее тяжелой палкой. Собралась небольшая толпа. Приземистая женщина шагнула вперед и вежливо попросила перестать. «Не твое дело!» — сердито пролаял человек, замахиваясь палкой, будто хотел ударить и женщину. Женщина отступила с жалким и покорным видом. Йоссариан ускорил шаг, он почти бежал. Ночь была полна ужасов. Ему подумалось, что он понял ощущения Христа, когда тот шел по миру, как психиатр проходит через палату, набитую безумцами, как обворованный — через тюремную камеру, набитую ворами. Ах, как бы он хотел увидеть прокаженного!
На другом углу мужчина зверски избивал мальчонку. Их окружила толпа зевак, и никто не сделал ни малейшей попытки вмешаться. Йоссариан отпрянул, испытывая болезненное ощущение, что эта картина ему знакома. Он был уверен, что когда-то прежде уже видел ту же самую жуткую сцену. Зловещее совпадение потрясло его, страх и сомнение завладели сердцем. Ну конечно, это была та же сцена, которую он наблюдал на другом углу, хотя все выглядело совсем иначе. Что творится в мире? Может быть, и сейчас приземистая женщина шагнет вперед и вежливо попросит мужчину прекратить, а тот замахнется, и она отступит? В толпе никто не шелохнулся. Отупевший от горя ребенок голосил во всю глотку. Мужчина продолжал наносить ему тяжелые, звонкие затрещины, пока мальчонка не упал, и тогда мужчина рывком поставил его на ноги, чтобы тут же еще раз сшибить его наземь. Никого из этих угрюмых, съежившихся от страха людей, кажется, не интересовал оглушенный, измордованный малыш. Никто не собирался за него заступаться. Ребенку было не более девяти лет. Только одна замызганная женщина молча плакала уткнув лицо в грязное посудное полотенце. Мальчик был худой, изможденный и обросший.
Йоссариан быстро перешел на другую сторону широкого авеню, подальше от тошнотворного зрелища, и почувствовал, что наступил на человеческие зубы, валявшиеся на мокром, поблескивающем тротуаре в клейких лужицах крови, по которым мелкий дождь барабанил острыми коготками. Тут и там валялись коренные зубы и сломанные резцы. Йоссариан на цыпочках обошел эти жуткие обломки и приблизился к подъезду, в котором плакал какой-то солдат, прижимая ко рту взбухший от крови носовой платок. У солдата подкашивались ноги, двое других поддерживали его, хмуро и нетерпеливо дожидаясь, когда приедет санитарная машина. И наконец она появилась, звеня, тускло светя янтарными фарами, и прокатила мимо, направляясь к следующему кварталу, где итальянец, штатский, с книгами под мышкой, отбивался от оравы полицейских, размахивавших наручниками и дубинками. У итальянца было белое, как мука, лицо и лихорадочно горящие глаза. Он хлопал веками, как летучая мышь — крыльями. Рослые полицейские ухватили его за руки и за ноги и подняли. Книги посыпались на землю. «Помогите!» — пронзительно закричал он, задыхаясь от волнения. Полицейские подтащили его к распахнутым задним дверцам санитарной машины и забросили внутрь. «Полиция! Помогите! Полиция!» — доносилось из машины. Дверцы заперли, и санитарная машина умчалась. Какая-то грустная ирония была в этой нелепой ситуации: человек, охваченный паникой, взывал о помощи к полиции, находясь в плотном кольце полицейских. Прислушиваясь к этим абсурдным и тщетным призывам о помощи, Йоссариан криво усмехнулся. Внезапно он с изумлением осознал, что слова итальянца двусмысленны. В голову ему пришла тревожная мысль, что несчастный, возможно, вовсе и не звал никакой полиции, нет, скорее, он, как герой, идущий на смерть, предостерегал каждого, кто не был членом банды полицейских с дубинками и пистолетами. «Помогите! Полиция!» — кричал человек, и он наверняка предупреждал об опасности.
Йоссариан откликнулся на этот призыв, воровато проскользнув мимо полицейских, и тут же едва не упал, зацепившись за ногу дородной женщины лет сорока со шкодливым видом торопливо перебегавшей перекресток. Она украдкой бросала через плечо мстительные взгляды на старуху лет восьмидесяти, которая, трясясь, ковыляла за ней на толстых перебинтованных ногах, безнадежно отставая. Старуха семенила и тяжело дышала, бормоча себе что-то под нос. Ошибиться было невозможно: это была погоня. Первая, торжествуя, добежала до середины широкой улицы прежде, чем вторая добралась до края тротуара. Подленькая улыбочка, с какой женщина оглянулась на запыхавшуюся старуху, была одновременно злобной и боязливой. Стоило несчастной старухе закричать — и Йоссариан пришел бы ей на помощь. Подай она сигнал бедствия — и он получил бы право ринуться вперед, схватить убегавшую и сдать ее банде полицейских, болтавшихся поблизости. Но старуха протрусила мимо, даже не заметив Йоссариана, до него только донеслось ее горькое, печальное бормотанье. И вскоре первая женщина скрылась во тьме. А старуха осталась стоять посреди перекрестка, одинокая, растерянная, не знающая, куда податься. Йоссариан оторвал от нее взгляд и заторопился прочь, стыдясь самого себя за то, что не пришел на помощь старухе. Он виновато, тайком оглядывался, позорно отступая. Он боялся, что старуха начнет преследовать его, и радовался, что дождливый, колыхавшийся, почти непроглядный, без единого огонька мрак укрыл его.