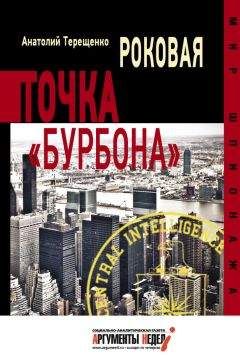С приветом к вам А.»
Тут, по-моему, такой случай, что ответить определенно нельзя, неправильно, невозможно…
То есть, вообще-то говоря, ответить можно, и даже легко, и даже вроде бы правильно будет. Можно, скажем, вполне сердечно написать: «Нет, дорогая А., ты не вправе оставить мужа, хорошего человека, пришедшего тебе на помощь в трудную минуту, лишить своего ребенка отцовской ласки». Можно для убедительности даже привести какие-нибудь поэтические строчки об ответственности человека, строящего советскую семью. Скажем, вот такие: «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне».
Но можно, однако, с той же искренностью и убедительностью написать нечто противоположное. Скажем: «Любовь дается человеку один раз в жизни! Чернышевский, великий революционный демократ, призывал никогда не давать поцелуя без любви. А ведь ты сама пишешь, дорогая А., что тебя с мужем любовь не связывает. К чему же этот взаимный обман? Если ты убеждена, что у тебя подлинное чувство к тому, другому, твой долг — идти навстречу своей любви, и муж, если он настоящий, хороший человек, поймет, пусть и с горечью…» и т. д. Тут тоже могут быть приведены соответствующие поэтические строчки. В крайнем случае из того же самого стихотворения (только другое место): «Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне».
И писатели, и журналисты, и ученые, к счастью, не боги, не семи пядей во лбу. И подобно тем двум выдуманным мной многие вполне реальные «учителя жизни» забывают об этом. Слишком часто мы решаемся уверенно кроить чужие судьбы, определять, кому кого любить, отважно врываемся в сферу, в которой и самому господу богу, существуй он на самом деле, было бы сложно. На каких весах взвесить чужую любовь и муку? По какой статье (не газетной, а уголовной) карать столь не редкие еще попытки загонять чужую судьбу в схему и еще, повторяю, рукой подпихивать, если не лезет?!
Я тут написал какие-то иронические вещи вовсе не потому, что мне так уж весело думать о судьбе А. и о ее письме. Просто хочется всеми доступными мне путями достучаться, докричаться до всех, кто в этом сверххрупком мире хочет что-то уладить, что-то поправить с помощью ломика и кувалды…
Мне так хочется просто сказать:
— Дорогая А.! Дорогие ребята! Лучше вы не пишите в редакцию таких писем, не несите в местком таких заявлений, не задавайте таких вопросов общему собранию!
Но трудно прямо так обрубить. И втройне трудно, просто страшно сказать: «Не могу», когда у тебя просят помощи, вот так отчаянно просят, как А.
Я, собственно, и написал эти заметки, чтобы объясниться как-то, чтобы привлечь внимание к невероятной сложности такого рода проблем, чтобы пробудить к ним бережность, уважение, не побоюсь сказать, трепет.
Ведь тут дело не в одной судьбе А. (хоть и одна-единственная судьба — это бесконечно много). Тут надо нам всем, всем обществом что-то решить в принципе. Ведь А. и многие ее сверстники, многие другие люди, постарше и помудрее, просто не готовы к вступлению в заветную область чувств, просто не получили естественного в ней воспитания (а вернее, получили, но «совсем не то»). Ведь в иных обстоятельствах сама А. могла оказаться в зале собрания, бестрепетно обсуждающего еще чье-нибудь мучительно незадавшееся чувство.
Все, чего мы касаемся в этом разговоре, было предметом страстных, отчаянных и пока не слишком победных поисков человечества многие и многие века. Ради воспитания чувств работала вся подлинная литература, все искусство, все высокое, чего добилось человечество. Ради воспитания чувств возможен, неизбежен, необходим и тот самый разговор «о Шиллере, о славе, о любви». Но когда дело доходит до живой судьбы, вот этой, вполне конкретной А. или В., тут широким прениям не место.
Так, естественно живому человеку, тем более молодому, не отягощенному (или, если хотите, не умудренному) опытом, страстно желать сочувствия, совета, может быть чьего-то даже властного и уверенного решения своих самых личных проблем. И конечно же каждому из нас бывает до смерти важно, просто необходимо, в трудную минуту с кем-то посоветоваться, перед кем-то выговориться, исповедаться. Но вот с кем и как? Этого мы так часто не понимаем. Не понимаем, не задумываемся, идем по привычной колее: «С коллективом обсудить», «В бюро разобраться», «В газету написать». А тут — снова повторяю — надо найти того, быть может единственного, человека, который много знает не только о жизни, но и о тебе, именно о тебе, и доброжелателен, и внимателен, и умен. Совсем не просто найти такого. Но только с таким и стоит вести разговор про судьбу…
Дико было бы «в принципе возражать» против операций на сердце, но еще более дико забывать, что это за операции…
Я написал те строчки — «не пишите в редакцию, не подавайте заявления» — и сразу услышал голоса столь знакомых мне оппонентов: «Значит, по-вашему, коллектив, дружная рабочая семья не может решать любые вопросы, не может наставить, научить уму-разуму любого, тем более молодого одиночку? Знаете, как называется подобное неверие?» Я даже догадываюсь, как они его назовут и политически квалифицируют. Но попробую объясниться…
Есть на свете такие вещи, которые нам на роду написано решать в одиночку или вдвоем… Слушая, как стучит собственное сердце, казнясь, раздумывая и потом вдруг одним внезапным душевным движением перечеркивая долгие и стройные раздумья.
Всем известно, что «свет лучше тьмы», что «только темное и дурное боится света, прячется от людей…». Если, мол, у тебя чистое чувство, то чего тебе его от людей прятать? Спор об этом идет, наверное, столько веков, сколько человечество сознает себя. Во всяком случае, где-то за тысячелетними перевалами древняя поэтесса Сафо (имевшая вообще своеобразные взгляды на любовь, лично мне глубоко не симпатичные) упрекала влюбленного поэта Алкея: «Наверное, твое чувство дурно, раз ты боишься о нем громко сказать». Вот такого же (спорного и в древнегреческие времена) взгляда придерживаются многие наши комсомольские, профсоюзные и прочие активисты. Не хотят они считаться с тем обстоятельством, что любовь, как заснятая фотопленка, когда ее вынесут на свет, может пропасть, исчезнуть, стать чем-то гладким, пустым, глянцевитым… Что-то непоправимо меняется в любви, ставшей предметом общего, даже самого благожелательного, принципиального, правильного, разговора…
Вмешательство в чужую любовь (пусть даже речь идет не о чужом, а о самом родном и свойском человеке) — это как операция на сердце. Каждый, входя в эту заповедную сферу, должен чувствовать страшную ответственность, как хирург, вскрывающий грудную клетку, «чтобы выйти на сердце».
Для этого надо знать о человеке очень многое (как перед операцией неизбежно знание множества обстоятельств — пульса, давления, состава крови и других совершенно точных данных). Нужна уверенность в неизбежности этого грозного вмешательства, горькое знание, что без операции — человеку гибель. И еще нужна железная уверенность хирурга в своих силах (вернее, надежда на свои силы, потому что полной уверенности в таком деле быть не может). И все равно клиника берет у больного расписку о согласии на операцию. Это как раз тот исключительный случай, когда формализм прекрасен.
А как часто еще у нас влезают в чужое сердце без разрешения, вламывается кто попало, иногда целым бодрым коллективом, и операцию ведут любыми подручными средствами, включая все те же ломики и кувалды.
Просто страшно узнавать, что на каком-нибудь комсомольском собрании в четвертом пункте повестки дня «Разное» или в третьем пункте «Персональное дело такого-то» (зажатом между «Предмайскими соцобязательствами» и «Отчетом члена комитета товарища Сапрыкина, ответственного за физкультурную работу») разбирается чья-то любовь.
Мне случалось бывать на таких вот собраниях. С интересом, притом не каким-нибудь там нездоровым, а вполне здоровым, товарищи из зала задают «виновникам торжества» вопросы. Просто товарищи желают установить истину: имела ли с его стороны место аморалка? Не имела? А с ее стороны? Тоже нет? Странно! Но (вспомнив художественную литературу), может, она не растет? Не интересуется производством? Не хочет куда-нибудь ехать, в полную романтики вьюжную степь (тайгу, тундру)? Нет? Хочет? Совсем странно!.. Что же, черт возьми, у них происходит? Может, у кого из них узкий, мещанский мирок? Нет? Крайне странно!
Время же идет, не может же коллектив, пустивший досрочно турбину в сто пятьдесят тысяч киловатт, отступить перед такой ерундовой проблемой! И тут уже кто-то — просто из желания установить наконец истину— задает деловой вопрос:
— А как он… ну… в смысле как муж?
Может, она ответит, и все станет ясно, и собрание решит, как помочь. Ну, предположим, до такого крайнего случая почти никогда не доходит. Но вот уж что сплошь и рядом бывает, так это подгонка под схему. Ежели он оставил ее с ребенком, значит, «аморалка с его стороны», выговор ему. И можно статью напечатать в многотиражке «Дон Жуан из Курносовки». Неважно, что эта брошенная жена — выжига и змея (не в политическом, а в разобычнейшем житейском смысле), неважно, что парень слезами от нее плакал и в конце концов сбежал… Дети есть? Ушел он? Он и виноват! «Стало быть, Васька и тать, стало быть, Ваське и дать таски». А если, напротив, уходит она, да еще «к кому-то», а он со своей стороны ничего плохого ей не сделал, вот тут уж весь огонь на нее. И статья в многотиражке может называться «Стрекоза из литейного»…