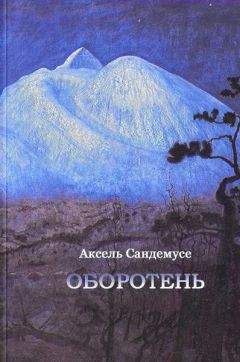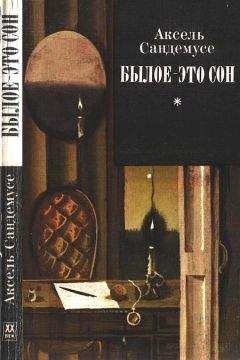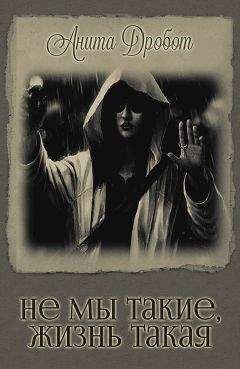— Какая ты красивая! — сказала Юлия.
Фелисия обрадовалась:
— Да, говорят, но особенно приятно это слышать от молодой девушки. Я пойду на почту, что-то мне подсказывает, что там лежит письмо, которого я жду.
Они редко забирали почту по воскресеньям. Фелисии не хотелось без нужды беспокоить почтмейстера. Юлия предложила сходить за почтой вместо нее или просто составить Фелисии компанию. Фелисия как будто задумалась.
— Нет, — сказала она. — Сегодня мне хочется пройтись одной. А ты останься дома и составь компанию мужчинам.
Никто не обратил внимания на эти слова, но потом многие задумаются над ними. В них не содержалось ничего, кроме желания Фелисии побыть одной — обычного для нее желания, — но потом эти слова будут повторять месяцами, над ними будут раздумывать, из-за них будут спорить.
— Сейчас опять пойдет снег, — заметила Фелисия.
Ян выглянул в окно:
— Похоже на то. Небо почти затянулось, остался лишь небольшой просвет. Да он уже идет. Боюсь за молодые фруктовые деревья. Ветки могут не выдержать такой тяжести, снегопад будет сильный. Я хорошо знаю эту серость, которая вдруг обволакивает весь мир.
Решив выпить перед уходом кофе, Фелисия присела. Эрлинг развалился в кресле, рядом на столе стоял бокал вина.
— Знаешь, Фелисия, я часто удивляюсь, как это ты, горожанка, говорящая на чистом риксмоле[22], девушка из высшего общества, могла выйти замуж за человека, говорящего на ландсмоле.
— Все очень просто. Разве ты не видишь, как Яну идет ландсмол? Когда я увидела его в первый раз, я сразу подумала, что этот увалень должен говорить на ландсмоле, и очень обрадовалась, услыхав, что он заговорил нараспев. И мне стало его жалко.
Ян фыркнул.
— Я смотрю на это как на его особенность, — продолжала Фелисия. — Это его личный навигационный знак для женщин, терпящих бедствие в море жизни. Мне бы хотелось, чтобы все остальные перестали говорить на ландсмоле. Это должно быть привилегией только Янова племени. Ландсмол должен быть закреплен только за ним… У меня не было бы детей, если б Ян не соблазнил меня своим ландсмолом. Знаешь как я смеялась! Ян воспользовался этим и сверкнул как молния. Хотя вообще его нельзя сравнивать с молнией, он никогда не торопится. Что бы ни случилось, Ян все равно начнет строить заново и не будет спешить.
— Чего-чего, а терпения у меня хватает, — согласился Ян.
Эрлинг вспомнил историю Яна и Вигдис. Ян сделал правильный вывод из их отношений и построил новое, более крепкое здание. Он, как архитектор, увидел все недостатки прежнего здания и не повторил их. Он не повторил ревности.
Ян обменялся взглядом с Фелисией, а Эрлинг перевел глаза на Юлию. Странно, подумал он, когда Юлия что-то делает, особенно когда она что-нибудь берет, мне всегда кажется, будто она левша, так мало и неуверенно она пользуется правой рукой. Ее движения похожи на движения ребенка, еще не научившегося управлять своими руками. Правой рукой она пользуется так, словно это левая. Эрлинг всегда обращал на это внимание. Вернее, Юлия пользовалась правой рукой так, как ею пользуются врожденные левши, которых переучили в детстве.
Только теперь он понял: Юлии пришлось в детстве пройти через те же муки, что и ему самому. Как он раньше не подумал об этом?
— Юлия, — спросил он, — ты в детстве была левшой?
Она долго смотрела на него, не сразу поняв, о чем он говорит. Потом покраснела и выдохнула короткое «да».
— Это у тебя от меня, — сказал Эрлинг, не глядя на нее. — Меня тоже заставили переучиться.
Ему показалось, что он нащупал какой-то след. Хорошая рука и плохая рука.
Он в детстве заикался. Левши иногда заикаются от нерешительности. Когда Юлия приехала в Венхауг, она еще немного заикалась. Так же, как и он, она не видела разницы между правой и левой рукой и всегда мучительно думала: эта? Нет, та…
Известно, что этот порок не проходит бесследно сам собой, он просто переходит на что-нибудь другое. Но не ведет ли он к раздвоению личности, если ребенок не знает, какой рукой следует пользоваться в том или ином случае? У некоторых бывает такое сильное раздвоение личности, что одно «я» даже не знает о существовании другого, но интересовался ли кто-нибудь, не родились ли эти люди левшами, не росли ли они угнетенными постоянным требованием поменять местами свои мозговые полушария?
Эрлинг оторвался от своих размышлений, потому что Фелисия собралась уходить.
Такой они и запомнят ее, замешкавшейся в дверях, уже почти на веранде, за стеклами которой кружились хлопья снега. В Венхауге она ходила без шапки в любую погоду. Последнее, что они видели, — веселый, умудренный жизнью взгляд, серебряный шлем волос, блестящие коричневые сапоги, узкие синие брюки, гибкую фигуру и победную грудь, обтянутую теплым свитером.
Они слышали, как она что-то крикнула во дворе. Потом, когда все проверялось снова и снова, выяснилось, что она крикнула детям то же самое, что сказала им, уже стоя в дверях, — она вернется домой минут через сорок. Выходя со двора, она встретила Тура Андерссена и попросила его зайти к Яну, чтобы поговорить о каких-то семенах. После ухода Фелисии садовник сразу пришел к ним. Этот пункт проверялся особенно тщательно. Сколько прошло времени до прихода садовника? Минут пять, ответил Ян. Юлия считала, что садовник пришел через две или три минуты после того, как Фелисия что-то крикнула детям. Очень немного, ответил Эрлинг. Во всяком случае, все трое были уверены, что прошло меньше десяти минут. Потом выяснилось, что дети видели Фелисию и садовника; перекинувшись с ней парой фраз, садовник направился к дому и вошел внутрь. Найти у него какой-нибудь мотив было трудно. Садовника угостили кофе и вином, и никто из четверых — садовник, Юлия, Эрлинг или Ян — не выходил из комнаты, пока они вдруг не хватились, что Фелисия давно должна была вернуться домой.
К тому времени она была уже мертва. В их памяти она так и осталась стоящей в дверях с поднятой на прощание рукой, этот образ был протравлен в их памяти, как гравюра.
Фелисия миновала теплицы, и после того никто во всем Венхауге не видел ее. Те из работников, которые уходили на воскресенье домой, смогли объяснить, где они были, и подкрепить свои слова свидетельскими показаниями, заподозрить их в чем-либо было невозможно. Все заканчивалось на борозде, оставленной в снегу, кровавыми следами в ней и плеском воды в полынье, черневшей в замерзшем и заснеженном Нумедалслогене.
Тот, кого она встретила, должно быть, знал, что она придет, знал он и о полынье. Больше им ничего не было известно.
Около шести утра Юлия и Эрлинг сидели в темной гостиной. Они услыхали шаги на втором этаже и прислушались — это Ян вышел из своей комнаты. Спускаясь вниз, он зажигал лампу за лампой. Неожиданно их ослепил яркий свет. Ян прошел через комнату, не глядя на них. В руке он держал бутылку и поставил ее рядом со своим креслом. Потом посмотрел на большие фотографии Харалда и Бьёрна, братьев Фелисии, убитых немцами. Лица его Юлия и Эрлинг не видели. Несколько раз он приложился к бутылке. Минут через пятнадцать он встал и ногой отшвырнул бутылку. Содержимое потекло на пол, и по комнате разлился резкий запах коньяка.
— За них она отомстила, — сказал Ян тихо, но внятно.
По пути наверх он гасил лампу за лампой, Эрлинг и Юлия слышали щелканье выключателей, пока он не дошел до своей комнаты. Дом снова погрузился во тьму. Эрлинг зажег настольную лампу. Юлия обхватила его за шею и прижалась к нему. Лицо ее распухло от слез. Из угла на них бесстрастно смотрел мужчина с овчаркой. Эрлинг снова погасил свет и сказал:
— Он пообещал им отомстить за нее. Для Яна это вопрос жизни и смерти.
Юлия всхлипнула:
— А для тебя, Эрлинг?
— Не знаю.
Они перебирали в уме различные догадки — все одинаково немыслимые, — и это еще сильнее связывало их мысли и воображение с последней прогулкой Фелисии, они пытались увидеть случившееся глазами леса и реки.
Как часто бывает в таких случаях, они каждый день спрашивали себя: что могли бы рассказать лес и река?
Эрлинг опять и опять ходил на то место, им владело отчаянное желание узнать подробности случившегося. Ему казалось, что природа мучительно пытается обрести дар речи. Да ну же, ну…
Молчание, природа нема. Возвращаясь в Венхауг, он смотрел на деревья. Несчастные деревья были обречены на молчание, они не могли вымолвить ни слова. Что видели птицы в зимнем лесу, что видели белки, что видела дикая норка?
Эрлинг сидел и смотрел на руки Яна, почему-то они всегда казались ему беспомощными. Эти большие, сильные и нежные руки мужчины чем-то напоминали ему руки детей и обезьян.
Яна в Венхауге всегда как будто сопровождал ветер. Уже по одной атмосфере, окружавшей его, Эрлинг чувствовал, что многие поколения его предков видели тот же лес, ту же реку и те же небеса над ними.