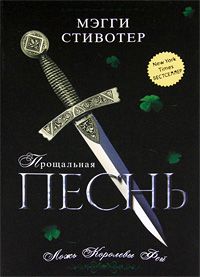Так прошла неделя. В последнюю ночь Натаниэль пришел пораньше. Казалось, он не хочет выполнять их общий долг. Они сидели по разные стороны стола, как и в первую ночь, но не обменивались словами. Потом внезапно, без предупреждения, Натаниэль потянулся и поднял прядь ее длинных рыжих волос, отливающих золотом в пламени свечей. Он сосредоточенно глядел на золотые нити меж пальцев. Его темные волосы тенью спадали на щеку, в распахнутых черных глазах плескались невысказанные мысли. В груди Элизы внезапно что-то сжалось, ей стало жарко.
— Я не хочу, чтобы это кончалось, — наконец тихо сказал Натаниэль. — Глупо, я знаю, но я чувствую…
Он умолк, когда Элиза подняла палец и прижала к губам Натаниэля, останавливая его.
Сердце Элизы колотилось под платьем, и она молилась, чтобы Натаниэль не заметил ее смятения. Нельзя позволить, чтобы он закончил фразу, — как бы об этом не мечтала ее неблагонадежная часть, — ведь слова обладают властью. Элиза знала это лучше других. Они и так позволили себе чувствовать слишком много, а ведь в их уговоре не было места чувствам.
Элиза чуть заметно качнула головой, и он кивнул в ответ. Какое-то время Натаниэль не смотрел на нее, просто молчал. Потом он начал рисовать в тишине, и Элиза подавила жгучее желание сказать, что передумала.
Когда Натаниэль ушел той ночью и Элиза вернулась в дом, стены коттеджа показались ей непривычно безмолвными и безжизненными. Она нашла кусок картона на столе, за которым сидел Натаниэль. Перевернув, она увидела свое лицо. Эскиз. Художник запечатлел ее. На этот раз Элиза была не против остаться на бумаге.
Элиза знала, что они преуспели, еще до конца первого месяца. Она испытывала непостижимое ощущение близости другого человека, даже когда рядом никого не было. Потом кровотечение не пришло, и она поняла окончательно. Мэри, потерявшую ребенка, временно приняли обратно в Чёренгорб в качестве посредницы между поместьем и коттеджем. Элиза сказала ей, что считает, будто искорка новой жизни затеплилась в ее теле. Мэри вздохнула, покачала головой и передала сообщение тете Аделине.
Вокруг коттеджа воздвигли стену, чтобы никто не увидел, как разбухает тело Элизы, и пустили слух, что она уехала. Мир сомкнулся вокруг ее дома. Чем проще ложь, тем легче ей верят, и этот вымысел оказался не исключением. Все знали о желании Элизы путешествовать. Люди легко поверили, что она, не обмолвившись и словом, уехала и вернется, когда настанет время. Мэри по ночам приносила Элизе еду, а доктор Мэтьюс, врач тети Аделины, заходил к ней под пологом темноты каждые две недели и проверял, правильно ли протекает беременность.
За девять месяцев заключения Элиза почти никого не видела и все же никогда не оставалась одна. Она напевала своему растущему животу, нашептывала сказки, видела странные и образные сны. Коттедж словно съежился вокруг нее, подобно теплому старому пальто.
Сад, где ее сердце неизменно пело, стал прекраснее, чем когда-либо. Цветы пахли слаще, выглядели ярче, росли быстрее. Однажды днем Элиза сидела под яблоней. Теплый, пронизанный солнцем воздух тяжело колыхался вокруг, и она провалилась в глубокий сон. Пока Элиза безмятежно спала, она увидела историю, да так четко, словно прохожий путник опустился подле нее на колени и прошептал свой рассказ. То была история о молодой женщине, которая, преодолев собственные страхи, прошла огромное расстояние, чтобы раскрыть истину и помочь любимой старой бабушке.
Элиза внезапно проснулась, охваченная уверенностью, что сон важен, что его необходимо превратить в сказку. В отличие от большинства идей, приходивших во сне, эта почти не требовала изменений. Ребенок, дитя внутри Элизы, каким-то образом способствовал возникшим ощущениям. Она не могла объяснить почему, но была престранно уверена, что ребенок связан с историей и помогает Элизе увидеть ее так ярко и полно. В тот же день она написала сказку, озаглавив ее «Глаза старухи», и в последующие недели часто думала о печальной старой женщине, у которой украли правду жизни. Хотя Элиза не видела Натаниэля с их последней ночи, она знала, что художник продолжает работать над иллюстрациями к ее книге, и хотела посмотреть, на какие образы вдохновит его новая сказка. Темной ночью, когда Мэри принесла продукты, Элиза попросила ее позвать Натаниэля, равнодушным тоном обмолвилась, что он может навестить ее в ближайшие дни. Мэри лишь покачала головой.
— Миссис Уокер не позволит, — тихо сказала она, хотя в доме никого, кроме них, не было. — Я слышала, как она кричала об этом в разговоре с госпожой, и госпожа заявила, что не следует ему ходить через лабиринт и навещать вас. Больше не следует, после того, что случилось. — Мэри взглянула на растущий живот Элизы. — Она сказала, что все может запутаться.
— Вот нелепость, — возразила Элиза. — Мы сделали это для Розы. Мы с Натаниэлем оба любим ее, мы поступили, как она просила, чтобы помочь ей обрести то, чего она хочет больше всего на свете.
Мэри, которая ясно дала понять, что именно думает о беременности Элизы и о том, как та собирается поступить с ребенком после его рождения, ничего не ответила.
Элиза разочарованно вздохнула.
— Я только хотела поговорить с ним об иллюстрациях к волшебным сказкам.
— И ваши сказки миссис Уокер не по душе, — сообщила Мэри. — Ей не нравится, что муж рисует для ваших историй.
— Но почему?
— Завидует она, аж позеленела вся, точно пальцы старого Дэвиса. Ее бесит, что муж тратит время и силы на ваши истории.
После этого Элиза перестала ждать Натаниэля и просто послала рукописную копию «Глаз старухи» в Чёренгорб с Мэри, которая согласилась — вопреки своим убеждениям — передать ее. Через несколько дней посыльный привез сюрприз — статую для сада в виде маленького мальчика с ангельским лицом. Даже не прочитав сопроводительное письмо, Элиза поняла, что Натаниэль прислал этот подарок, думая о Сэмми. В письме Уокер извинился, что не заходит, осведомился о ее здоровье, после чего быстро перешел к тому, как ему понравилась новая история. Волшебство сказки захватило его мысли, идеи иллюстраций переполнили его, и он не в силах думать о чем-либо другом.
Сама Роза заходила раз в месяц, но постепенно Элиза стала относиться к ее визитам более настороженно. Начиналось все неизменно хорошо, Роза широко улыбалась при виде Элизы, спрашивала о здоровье и охотно трогала живот, надеясь почувствовать, как двигается ребенок. Но в какой-то момент, без повода и объяснений, Роза отшатывалась, сплетала руки и отказывалась касаться живота Элизы, избегая смотреть ей в глаза. Роза лишь вцеплялась в собственное платье, подбитое, чтобы изобразить беременность.
Через шесть месяцев Роза вовсе перестала приходить. Элиза, сбитая с толку, тщетно ждала в назначенный день, гадая, не перепутала ли дату. Но нет, все было записано в дневнике.
Сначала Элиза тревожилась, не заболела ли кузина, ведь, несомненно, ничто иное не смогло бы удержать ее от визита. Когда в очередной раз пришла Мэри с корзинкой припасов, Элиза набросилась на нее с расспросами.
Мэри опустила корзинку и молча поставила чайник на горячую плиту.
— Мэри? — произнесла Элиза, выгибая спину, чтобы сдвинуть ребенка, который давил ей в бок. — Не пытайся оградить меня. Если Роза нездорова…
— Ничего такого, мисс Элиза. — Мэри отвернулась от плиты. — Просто миссис Уокер считает, что визиты к вам слишком тягостны.
— Тягостны?
Мэри не смотрела Элизе в глаза.
— Она чувствует, что потерпела неудачу, даже сильнее, чем прежде. Она больна и не может зачать, а вы спелая, точно персик. После визитов к вам она возвращается домой, и ей несколько дней нездоровится. Роза отказывается видеть мистера Уокера, в разговорах с госпожой раздражается, почти не притрагивается к еде.
— Скорее бы появился малыш. Когда я рожу ребенка, когда Роза станет матерью, она забудет подобные мысли.
Их разговор вошел в привычную колею: Мэри качала головой, а Элиза защищала свое решение.
— Это неправильно, мисс Элиза. Мать не может отдать свое дитя.
— Это не мое дитя, Мэри. Оно принадлежит Розе.
— Все изменится, когда придет время.
— Нет.
— Вы не знаете…
— Ничего не изменится, это невозможно. Я дала слово. Если я передумаю, Роза не переживет.
Мэри подняла брови.
Элиза добавила решимости в голосе: