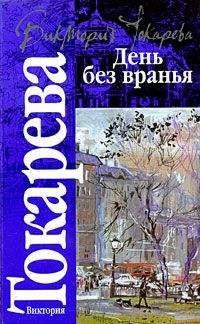Она не слушала его слова. Только интонации. Они были четкие. Горькие. Он в самом деле был расстроен. Огорчен. Он хотел выяснить отношения.
– Это потому, что ты меня не любишь, – заключил Елисеев. – Ты просто об меня греешься. Не знаю, почему ты выбрала именно меня? За что мне такая честь и такой подарок?
– По-моему, это ты выбрал меня. Это твоя идея.
– Я давно тебя выбрал. Я еще год назад тебя выбрал. Я ждал случая.
Лена вспомнила, что действительно год назад они с Андреем были на дне рождения у Коноваловых. Андрей тогда уже похудел, но еще не слег. Они еще ходили в гости. И к ним ходили гости. Тогда, у Коноваловых, Елисеев нависал над ней с рюмкой. Что-то говорил. Интересничал. Но у нее были мозги не тем заняты.
– Перестань, – сказала она. – Все не так плохо. Бабник, пьяница и пошляк – это тоже может нравиться. Любят и с этим.
– Ты меня любишь? – спросил Елисеев и замер в темноте.
Захотелось сказать: «Нет, я не люблю тебя».
– Не знаю.
– Что значит: не знаю? Да или нет?
– Скорее да.
– Что «да»?
– Люблю.
Это было ужасно. Мистические слова, шифр судьбы, были произнесены всуе. Просто так. На воздух. Но слово вылетело и материализовалось. Она любила. Любила его ноги, руки, запах, лицо, интуицию. Ту самую интуицию, которая вела его и в работе, и по тайным тропкам распущенности.
Он заплакал. Его начало трясти.
– Я погибаю. – Он прятал лицо в ее плече. – Скажи, ты меня спасешь? Ты спасешь меня?
– Нет, – сказала Лена. – Я тебя окончательно прикончу.
Ему это понравилось. Он перестал плакать. Поднял голову. Тихо улыбнулся, как оскалился. Она осторожно поцеловала его зубы – чистые и влажные.
– Родная моя, – проговорил он. – Милая моя. Как я тебя обожаю. Ты единственный человек, который мне сейчас нужен в этой трижды проклятой жизни. Я брошу всех и буду любить тебя одну.
– Я хотела бы быть молодой для тебя.
– Зачем?
– Чтобы только я.
– Ты самая молодая для меня.
Он обнял ее.
Впереди расстилалась ночь любви.
Лена задыхалась от некоторых его идей. Но с радостной решимостью шла навстречу. Они были равновеликими партнерами, как Паганини и его скрипка. Как летчик-ас и его самолет. Одно невозможно без другого.
Под утро заснули. Спали мало, но странным образом выспались и чувствовали себя замечательно. И весь день в теле стояла звенящая легкость.
В городе жил человек по фамилии Панин. Его приглашали на могилу декабристов. Приглашали в особо ответственных случаях, когда приезжали иностранцы и высокие гости.
Панин умел впадать в особое состояние, как шаман. Вгонял себя в транс и оттуда, из транса, начинал надгробный крик над святыми могилами. Из него выплескивалась энергия, от которой все цепенели и тоже впадали в транс. Доверчивые американцы плакали. Циничные поляки не поддавались гипнозу. Усмехались и говорили: для нас это слишком.
Елисеев стал невероятно серьезным и не мог щелкать своим фотоаппаратом. А Лена взялась рукой за горло и поняла, сейчас что-то случится. Панин завинчивал до нечеловеческого напряжения. Его лицо было мокрым от пота.
– Интересно, ему платят? – спросил оператор Володя. – Или он энтузиаст?
– Сумасшедший, – сказала Нора Бабаян.
Лена пошла в сторону, не глядя. Остановилась возле кирпичной кладки. Ей надо было прийти в себя. Справиться. Она умела справляться. Научилась. Как детдомовский ребенок, которому некому пожаловаться. Не на кого рассчитывать. Лена никогда не разрешала себе истерик, хотя знала: это полезная вещь. Лучше выплеснуть на других, чем оставить в себе. Но каково другим? Значит, надо держать внутри себя. А не помещается. Горе больше, чем тело. Подошел Елисеев. Обнял.
– Я хочу быть тебе еврейским мужем, – сказал он. – Любить тебя и заботиться. Носить апельсины.
Лена держалась за него руками, ногтями, как кошка, которая убежала от собаки и вскарабкалась на дерево. Только бы не сорваться. А он стоял прямой и прочный, как ствол.
В голове Елисеева шел митинг, но спокойнее, чем обычно.
Елисеев переключил свой страх на сострадание. Отвлекся от своего горя на чужое. И этим выживал.
Панин вычерпывал себя для исторической памяти. Иначе весь этот транс, не имея выхода, разнес бы его внутренности, как бомба с часовым механизмом. Или какие там еще бывают взрывающие устройства.
– Хочешь, я встану перед тобой на колени? – спросил Елисеев.
– Зачем?
Он встал на колени. Потом лег на снег. И обнял ее ноги.
– Выпил, – догадалась Лена. – Дурак…
– Я выпил. Но я трезвый.
Это было правдой. Он выпил, но он был трезвый. Трезво понимал, что устал жить в двух жизнях. Семья без эмоций. И эмоции вне семьи. Две жизни – это ни одной.
Панин все неистовствовал, вызывая в людях историческую память и историческую ответственность. А группа стояла темной кучкой. И что-то чувствовала.
Вечером все собрались в номере оператора Володи. Мужчины принесли выпить. Женщины нарезали закуски.
Лена и Елисеев пришли врозь. Чтобы никто не догадался.
Сидели в номере: кто на чем. На стульях, на кроватях, на подоконнике. Лене досталось кресло. Елисеев околачивался где-то за спиной. Она не оборачивалась. Не искала его глазами.
Здесь же присутствовала девочка, играющая княгиню Волконскую. У нее был странный деланный голос, как будто она кого-то передразнивала. Девочка была беленькая, нежная, высокая и очень красивая. Лена любила молодых. Они ее не раздражали. Они как бы утверждали цветение и красоту жизни в ее чистом виде.
Лена знала, что ее родители разошлись и девочка жила с бабушкой. И второе: у нее был друг-банкир, который содержал ее и бабушку и, кажется, обоих родителей с их новыми семьями. Хороший банкир.
Все постепенно напивались. Стали петь. Выбирали песни тоталитаризма. В том времени были хорошие мелодии.
…«Эх, дороги, пыль да туман…» Это – не пьяный ор. Это – песня. И поющие. Люди, осмыслявшие жизнь. Зачем были декабристы? Чтобы скинуть царя? Чтобы без царя? Чтобы в результате было то, что стояло семьдесят лет? И то, что теперь…
Вся киногруппа нищенствует. И творцы, и среднее звено. А банкир живет хорошо. И покупает любовь. Любовь стоит дорого. Или не стоит ничего.
Елисеев куда-то исчезал из поля зрения. Лена оборачивалась и искала его глазами. Он пил много. Лицо становилось растерянным. Лена боялась, что он оступится и ударится об угол кровати. Все окружающее как будто выставило свои жесткие углы.
Она знала его два дня. Это много. Даже за один час можно все понять. А тут два дня и две ночи. Сорок восемь часов.
Андрей – совсем другой человек. Но такие, как Андрей, не живут. Таких Бог быстро забирает. Они Богу тоже нужны. Они нужны везде – тут и там. А Елисеев – ни тут, ни там. Но любят и таких.
Он подошел к ней. Сел на ручку кресла. Посмотрел в ее глаза проникающим взглядом. Лена увидела, как тяжело пульсирует жилка на шее. Шея – не молодая. Примятая. Кровь пополам с водкой. Сердце устало, но качает. Он сел рядом, чтобы сердце получше качало. Не так тяжко.
– Ты мне поможешь? – спросил он. – Не дашь подохнуть?
– Не дам. Я умею. Я поддержу.
Он поверил и успокоился.
Потом они ушли врозь. Она – раньше. Он – через десять минут.
Лена вошла в ванную. Зажгла свет. И увидела себя в зеркале. Она была красивая. Этого не могло быть, но это было.
Андрей любил ее рисовать. Овал лица – треугольником, с высокими скулами. И большие зеленые глаза. Кошка. Глаза преувеличивал. А щеки преуменьшал. И сейчас в гостиничном зеркале Лена увидела преувеличенные глаза и овал треугольником. Горе что-то добавило. Присмуглило. Подсушило. Но осенний лист тоже красив. И его тоже можно поставить в вазу, украсить жилище. Жизнь продолжается.
Вошел Елисеев. Едва разделся и сразу грохнулся.
– От тебя воняет алкоголем, – сказала Лена.
– Ну и что теперь с этим делать? Лечь на другую кровать?
– Нет, – сказала она. – Останься.
Они лежали рядом и слушали тишину.
– Ты никогда не говорил о своей жене.
– А зачем о ней говорить?
– Но она же существует…
– Естественно.
– А какая она?
Он помолчал. Потом сказал нехотя:
– Высокая. Сутулая. Это оттого, что у нее всегда была большая грудь. Она стеснялась. И сутулилась.
– Ты ее любил?
– Не помню. Наверное…
– У вас есть дети?
– Нет.
– А постель?
– Нет.
– А какая ее роль?
– Мертвый якорь.
– Что это значит?
– Это якорь, который болтается возле парохода и цепляется за дно. Он не держит. Но корабль не может отойти далеко. Не может уйти в далекие воды.
Его корабль болтается у причала, как баржа. Среди арбузных корок и спущенных гальюнов.
– А зачем тебе такая жизнь?
– Я не должен быть счастлив. Иначе я не смогу останавливать мгновения. Или остановлю не те. Счастливый человек не имеет зрения. Он имеет, конечно. Но другое.
– Это ты все придумал, чтобы оправдать свое пьянство и блядство. Можно серьезно работать и серьезно жить.