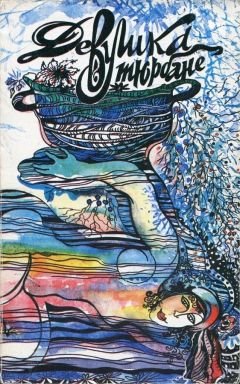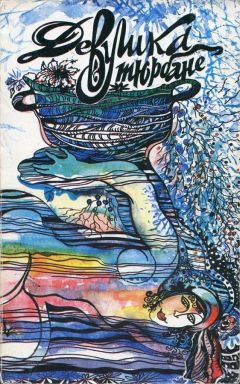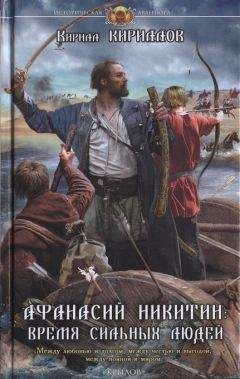В субботу утром мама приготовила равиоли с творогом. Мы так давно не ели равиоли с творогом, что даже вкус их позабыли, ведь уже несколько месяцев мы питались «на редкость заурядно». Мама встала очень рано: проснувшись около шести часов, я услышал, что она уже возится на кухне, стараясь не шуметь. Утро выдалось замечательное. Когда мы с Неной поднялись, весь стол уже был занят полосками теста, из которых специальной формочкой в виде ракушки вырезают равиоли и потом начиняют их творогом. Мы быстренько выпили за маленьким столиком кофе с молоком и бросились помогать маме: Нена вырезала ракушки, я накладывал ложкой творог, а мама лепила равиоли, очень осторожно защипляя их по краям, ведь, если надавить слишком сильно, начинка вылезет и ракушка будет испорчена.
Устроим небольшой праздник, сказала мама, сегодня особый день. И снова, точь-в-точь как в ту субботу, когда Нена впервые произнесла свою фразу, меня как обожгло внутри, я весь покрылся испариной и выдавил из себя: ну и жара нынче, солнце еще как следует не поднялось, а уж так парит; ничего удивительного, отозвалась мама, сегодня же третье августа, запомните этот день, суббота, третье августа; извини, мама, сказал я, мама, можно я пойду к себе, если вам понадобится моя помощь — позовите. Наверно, мне надо было выйти на воздух, пока в саду дышалось легко, я мог бы посмотреть, что там с нашим виноградом пергола, или еще чем-нибудь заняться. Но почему-то предпочел полумрак своей комнаты.
За обедом мама веселилась, даже, пожалуй, чересчур. Равиоли вышли на славу, Нена даже попросила добавки, но маме, видно, не терпелось, чтобы мы поскорее закончили: она то и дело поглядывала на часы. В четверть второго мы встали из-за стола, мама быстренько свалила в мойку посуду и сказала: вымоем после, а теперь всем отдыхать, вы ведь тоже сегодня поднялись ни свет ни заря. Нена, как ни странно, и на этот раз не стала упираться, а мигом улеглась на диване в столовой. Мама по своему обыкновению закрыла ставни в гостиной и опустилась в кресло с платком на глазах. Я лег, не раздеваясь, поверх покрывала и стал ждать. В наступившей тишине я слышал, как бешено колотится мое сердце, и боялся, что его могут услышать в других комнатах. Должно быть, я задремал, но всего на несколько минут, потому что подскочил как ужаленный, когда часы пробили без четверти два; затаив дыхание, я вслушивался в каждый шорох. Наконец в гостиной скрипнуло кресло, и больше ни единого звука: наверно, мама очень старалась не шуметь. Несколько секунд простоял я в ожидании за ставнями, меня трясло — не от холода, разумеется, — пришлось даже стиснуть зубы, чтоб не стучали. Потом задняя дверь кухни тихонько отворилась, и мама вышла. Сначала я ее и не узнал: как странно, это была мама с фотографии на комоде, где она стоит под ручку с папой на фоне собора Святого Марка, а внизу написано: Венеция, 14 апреля 1942. На ней было то же белое платье в крупный черный горох и туфли со смешными ремешками вокруг щиколоток, а на лице белая вуалетка. И еще жакет с голубой шелковой камелией на лацкане да сумочка из крокодиловой кожи. В руке мама очень бережно, как драгоценность, держала мужскую шляпу: я ее сразу узнал. Легкой, грациозной походкой, которую я прежде у нее не замечал, мама прошла меж лимонов до мощеной аллеи; со спины она показалась мне гораздо моложе, я вдруг понял, что Нена ходит точно так же, как она, — слегка раскачиваясь и поводя плечами. Она скрылась за углом дома, и теперь мне были слышны только ее шаги. Сердце готово было выскочить из груди, одежда прилипла к телу, и у меня даже мелькнула мысль, не накинуть ли халат, но в этот момент часы пробили два, и я уже не мог оторваться от подоконника. Чуть-чуть раздвинув створки ставен, чтобы лучше видеть, я ждал; казалось, что время тянется бесконечно: сколько же она там пробудет, почему так долго не возвращается? И тут мама появилась из-за угла; я смотрел, как она идет, высоко вскинув голову, смотря прямо перед собой каким-то отсутствующим взглядом, ну в точности как тетя Ивонна, и улыбается. Сумку она перекинула через плечо и от этого стала будто бы еще моложе. Вдруг она остановилась, достала из сумочки круглую пудреницу, нажала кнопку — крышка откинулась. Мама взяла пуховку и, глядя во внутреннее зеркальце, слегка попудрила щеки. Мне до боли захотелось окликнуть ее: мама, я здесь, но я не мог вымолвить ни одного слова. Только внезапно и совершенно явственно ощутил неповторимый аромат черники, который переполнял рот, щекотал ноздри, властно вторгался в комнату, в воздух, в окружающий меня мир.
© 1987 Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Я расскажу вам про то, как Баратто, вернувшись однажды вечером домой, почувствовал, что все мысли вдруг улетучились из головы, после чего он надолго перестал разговаривать.
В конце марта, в воскресенье, Баратто играет в регби. В первом тайме он раза два вырывается вперед, но на полпути останавливается, неодобрительно качая головой. Дело в том, что нападающие вовремя его не поддержали, что приводит к потере мяча. Такая игра Баратто ни к чему, о чем он прямо заявляет второму защитнику (у того ячмень на глазу).
В центре поля начинается свалка, судья свистит, игроки тузят друг друга и походя выясняют отношения с судьей, а тренер, вскочив со скамейки, вопит благим матом. Баратто, глядя в землю, топчется на задней линии. Потом вдруг встряхивает головой и набрасывается на товарищей по команде:
— Сколько можно балаганить?!
Судье тоже порядком от него достается за то, что не объявляет всем штраф.
Один игрок, гигант с маленькой головкой, примирительно хлопает его по плечу:
— Ну успокойся, Баратто, чего ты разошелся?! Наши дела и без того плохи.
Команда их постоянно проигрывает, и положение у нее в турнирной таблице, прямо скажем, невысокое.
Баратто снова встряхивает головой.
— Ну и нечего тут рассуждать! Играть никто не умеет, вот и продуваем.
К ним подходит защитник с ячменем на глазу.
— Я с вами дважды повредил мениск, а что толку?
Он поворачивается к ним спиной и направляется в раздевалку.
— Ты куда, Баратто? — кричат ему вслед.
Он, не оглядываясь, отвечает, что такие игры ему обрыдли.
В раздевалку влетает тренер с потухшей сигарой во рту. Он кричит, что и так все рушится, а еще один из лучших игроков посреди матча уходит с поля и теперь с него руководители команды потребуют объяснений, а что он им может сказать?.. Пока он разоряется, Баратто снимает с себя все и остается в чем мать родила.
Тренер в ожидании ответа нервно раскуривает потухшую сигару:
— Ну что ты молчишь?
— Бросай курить, а то рак заработаешь, — советует Баратто, указывая на сигару.
Потом он садится на скамеечку и прикрывает глаза, давая понять тренеру, что разговор окончен.
С закрытыми глазами Баратто задерживает дыхание, и ему кажется, что он может бесконечно пребывать в состоянии апноэ[99], не испытывая никаких чувств и даже не отдавая себе отчет, где он находится. Но через несколько секунд голова начинает кружиться, и он валится со скамейки на пол.
Без шлема, чтоб голове не было жарко, Баратто катит на мотоцикле обратно в Пьяченцу. На шоссе вереницы машин, возвращающихся в город после воскресных прогулок; у каждого перекрестка, у каждого светофора пробка; Баратто то и дело съезжает на обочину и озирается по сторонам. Ему кажется, что откуда-то валит не то дым, не то пар, и в мозгу вертится мысль: откуда столько дыма? Он останавливает мотоцикл, вглядывается, и мысль исчезает, потому что воздух чист, прозрачен и окрестные поля просматриваются до самого горизонта. На пригорке высятся три одиноких дерева, не отбрасывающие тени.
Уже на окраине города его задерживает регулировщик за езду без шлема.
— У меня вся голова в огне, — объясняет Баратто. — Наверно, давление подскочило.
Он оборачивается, пытаясь отыскать взглядом три дерева, не отбрасывающие тени. Потом закрывает глаза и погружается в апноэ до тех пор, пока регулировщик не возвращает ему права, заметив, что без шлема ехать нельзя. У полицейского много дел: он уже машет палочкой кому-то. Баратто катит дальше, так и не надев шлема.
Возле дома он встречает пенсионера с нижнего этажа; тот поливает азалию в горшке.
— Дни стали длиннее, — не разгибаясь, заводит он разговор с Баратто.
— Мне сейчас некогда, — отзывается Баратто, проходя мимо.
В квартире он снимает куртку и бросает ее прямо у порога. Стол в гостиной накрыт: жена Баратто накрывает его каждый день перед уходом. Последнее время она стала возвращаться поздно, вероятно завела себе любовника, но Баратто это не волнует. Он готовит на кухне ужин и съедает его стоя, а перед сном убирает со стола в гостиной, чтобы жена не подумала, будто с ним творится что-то неладное. Когда она приходит, Баратто уже спит; тоже стоя, она доедает в кухне остатки ужина, а на следующий день снова накрывает стол в гостиной.