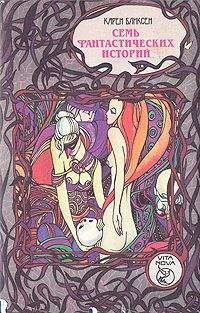В просторной зале, окнами на длинную террасу над рекой, тяжелая дровь дождя по плитам отдавалась так гулко, словно он хлестал прямо с потолка. В стеклянные отворенные двери врывался запах свежести и горячего камня, резко остывающего в водяных потоках. В самой зале пахло розами. В дальнем углу старик аббат обучал девчушку игре на фортепьяно, но дождь и гром мешали отсчитывать такт, урок пришлось прервать, и оба глядели теперь в окно, на берег и реку.
Старуха графиня и молодая мать, сидя рядышком на диване, любовались младенцем. На руках у кормилицы, дебелой юной особы, облаченной в нечто розовое и красное, как олеандровый куст, он казался немыслимо крошечным, как печеное яблочко, все в кружевах и в лентах. Внимание дам разделялось между ним и грозою, и то и другое приводило их в такой неистовый восторг, будто в жизни не было и не будет ничего более увлекательного.
Графиня Карлотта хотела встать навстречу гостю, но так разволновалась при виде его, что не могла шевельнуться. Глаза под морщинистыми веками были полны слез, и во вce время разговора они струились у нее по лицу. Она его расцеловала в обе щеки и с глубоким чувством представила внучке, и впрямь прекрасной, как те мадонны, которых понагляделся он в Италии, а затем и младенцу. Август никогда не в состоянии был испытывать ничего, кроме страха, в присутствии столь крошечных существ, хотя и соглашался признать, что они представляют известный интерес как некое невнятное обетование. Тем более его изумило, что все три женщины явственно считали дитя уже верхом совершенства и, кажется, досадовали, что в дальнейшем ему суждено меняться. Но вдруг это представление о том, что жизнь человеческая достигает при рождении своего апогея, а затем неукоснительно влечется к закату, показалась ему куда удовней и совлазнительней собственных его понятий.
Старая дама весьма сильно изменилась со времени их встречи. Любовь к особи мужского пола, которой она, по собственному ее признанию, прежде не знала, придала ее жизни гармоническую и сладостную цельность. Так сама она ему поведала.
— Когда я была девочкой, — сказала она, — мне часто повторяли, что дураку полработы не кажут. Но что же иное в течение всей нашей жизни делает с нами Господь? Да покажи он мне эту прелесть с самого начала, я, как послушная овечка, трусила бы за Ним на шелковой ленточке. Жизнь наша — мозаика Творца, и он без устали ее складывает. Если б я только сразу увидела в центре этот дивный кусочек, мне открылся бы весь узор, и разве бы я упиралась, разве стала спутывать его без конца, заставляя Господа делать лишнюю работу?
Впрочем, она больше вспоминала несчастный случай на дороге и вечер, проведенный вместе с Августом в гостинице. И сладость воспоминанья, как водится, придавала прелести событиям, в свое время начисто ее лишенным.
Слуга внес вино и великолепные персики, молодой отец явился и был представлен гостю, играя, однако, в этой сцене поклонения роль не большую, нежели выпала в сходном случае самому младшему из волхвов, тогда как старая графиня избрала себе роль Иосифа.
Когда дождь перестал, она подвела Августа к окну.
— Мой милый юный друг, — сказала она, стоя с ним рядом, чуть поодаль от остальных. — Никакими словами мне не выразить мою признательность. Но я хочу подарить вам кое-что на память, чтобы вы меня не забывали вдали, и прошу вас мне не отказать и принять мой подарок.
Август стоял и смотрел в окно. Что-то смутно знакомое вдруг задело его за сердце.
— Когда мы встретились впервые, — сказала она, — я рассказала вам, что в жизни своей любила три существа. О двух первых вы знаете. Третья была девушка, мне ровесница, подруга из дальней страны, уж и не припомню теперь, какой именно. Мы недолго были знакомы, скоро нам суждено было навсегда расстаться. Перед разлукой мы поклялись вечно помнить друг друга, и память о ней много раз меня спасала среди превратностей судьбы. Прощаясь, в слезах, мы обменялись на память подарками. Эта вещица для меня драгоценна, как знак истинной дружбы, оттого-то я и прошу вас ее принять. Пусть укрепляет она вашу веру в чудеса и скорую помощь Провидения в бедах.
С этими словами она нащупала у себя на груди какой-то мелкий предмет и протянула Августу.
Август на него взглянул, и тотчас рука его невольно потянулась к жилетному карману. То был флакончик для нюхательных солей в форме сердца. На светлом фарфоре был изображен пейзаж — деревья, белый дом. И, вглядевшись в него, Август узнал собственный свой дом в Дании. Он узнал щипец Линденбурга, и два старых дуба у ворот, и на задах липовую аллею. Каменная скамеечка под дубами была выписана с особенной тщательностью. Понизу, по вьющейся ленте, шли слова: «Amitie sincere».
Он нащупал свой флакончик в жилетном кармане и уже чуть было не вынул его, чтоб показать старой даме.
Он знал, что подарит ей любимый сюжет для неустанных, неиссякаемых рассказов, что и на смертном одре, очень возможно, она вспомнит о чудесном знаке судьбы. Но его удержало ощущенье, что в этом решенье рока есть что-то, для нее недоступное, предназначенное ему одному, — та глубь, тишина и покров, которых ведь ни с кем не разделишь, как нельзя поделиться снами.
Он с большим чувством поблагодарил старую даму, и она поняла, что он умел оценить ее дар, и отвечала с удовлетворением и достоинством.
Расточая изъявления искренней дружбы, он простился со старой графиней и юной четой и пустился в обратный путь, в Пизу.
Дождь перестал, был почти прохладный вечер. Золотые лучи и синие тихие тени оспаривали между собою простор. Низко в небе висела радуга.
Август вынул из кармана зеркальце. Зажав его в ладони, он задумчиво в него поглядел.[7]
СТАРЫЙ СТРАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ
У моего отца был друг, старый барон фон Бракель, он много путешествовал на своем веку и многих людей, города посетил и обычаи видел.[8] Во всем прочем он весьма мало походил на Одиссея, особенно по части хитроумия, не выказывая никакой ловкости в устройстве собственных дел. Верно, и сам он об этом догадывался, а потому уклонялся от обсуждения вопрособ практических с молодым поколением, озавоченным устройством карьеры. Зато, если речь шла о теологии, опере, нравственности и подобных бесполезных предметах, с ним любопытно было потолковать.
В молодости он был на редкость хорош собой. Думаю, он воплощал тогдашний идеал прекрасного юноши. В лице его не осталось никаких следов этой былой красоты, но они сквозили в том спокойном веселом достоинстве, которое является обычным ее следствием и остается даже и у дряхлых стариков, глядевшихся в высокие зеркала минувшего века с гордостью и восхищением. Так что и в danse macabre[9] вы без ошибки бы указали скелеты тех, на кого с удивленьем, восторгом и завистью указывали когда-то на балах.
Как-то вечером мы с ним углубились в испытанную тему, столетиями служившую свою службу литературе. Он с совершенной серьезностью представил на мое рассмотрение классический конфликт между желанием и долгом, озадачивавший на перепутье еще Геракла: стоит ли жертвовать склонностью ради того, что тебе представляется справедливым? И кстати же, он рассказал мне следующую историю.
Зимней дождливой ночью 1874 года в Париже со мной заговорила на улице пьяная девушка. Я тогда, сами можете высчитать, был совсем еще юнец. Я был безумно несчастлив и сидел с непокрытой головой под дождем на уличной скамейке, ибо только что расстался с дамой, которой, как мы выражались тогда, я поклонялся и которая час назад пыталась меня отравить.
Эта история никак не связана с тем, что я вам рассказываю, но сама по себе любопытна. Много лет я про нее и не вспоминал, пока, в последний раз быв в Париже, не увидел вдруг в ложе оперы мою даму с двумя прелестными девочками в розовом, как объяснили мне, ее правнучками. От ее былой прелести ничего не осталось, но никогда я не видывал ее столь довольной. Потом уж я пожалел, что не зашел к ней в ложу, ибо, хоть оба мы мало нашли счастия в старой нашей любви, верно, ей лестно было вы напоминание о юной красавице, терзавшей мужские сердца, как самому мне было лестно вспомнить, пусть смутно, юношу, чье сердце было столь жестоко терзаемо в то давнее время.
Если великому мастеру не удалось увековечить ее редкую красоту на холсте или в мраморе, ныне она живет лишь в очень немногих старых душах, вроде моей… В свое время она поражала. Светловолосая, таких светлых волос я не видывал больше ни у одной женщины, она, однако, ничуть не походила на этих ваших вело-розовых красоток. Она была бледна, вовсе лишена красок, как старая пастель, как туманное отражение в зеркале. И за нежным этим фасадом таилась такая непостижимая энергия, такая гордость, каких не имеют уже или не выказывают нынешние красавицы.
Я увидел ее и влюбился осенью, когда оба мы съехались для охоты в замок одного приятеля с большой компанией молодых людей, которые нынче, ежели еще живы, оглохли и скрючились от подагры. Я, верно, до последнего часа моего не забуду ее на крупном гнедом жеребце, в ясном воздухе, тронутом легким морозцем, когда мы, бывало, усталые, разгоряченные, ввечеру возвращались в замок по старому каменному мосту. Я любил ее так, как пажу надлежит любить королеву, смиренно и дерзко, ибо она была столь извалована поклонниками и красота ее была столь царственна и надменна, что пугала двадцатилетнего мальчика, бедного и чужого в ее кругу. И каждый час, когда мы ездили верхом, танцевали, участвовали вместе в комедиях и живых картинах, был наполнен страхом, надеждой, восторгом и мукой, ну, да вы сами знаете, каково это — целый оркестр в душе. Когда она, как это говорится, подарила мне счастье, я поистине счел себя осчастливленным навеки. Помню, утром, раскуривая сигару и озирая с террасы волнящуюся голубыми холмами округу, я давал Господу расписку в своем окончательном счастье. Отныне, что бы ни произошло, я свое получил и больше ничего уж не требовал.