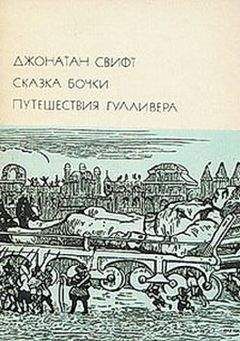Вернувшись оттуда, куда его увозили, отец начал ходить к психологу. Судя по виду — лицо зеленоватое, глаза красные и опухшие, — отцу это было необходимо. Джимми тоже ходил к психологу — пустая трата времени.
— Ты, наверное, очень несчастен, что мама ушла.
— А, ну да.
— Ты не должен себя винить, сынок. Это не твоя вина.
— А вам откуда знать?
— Все в порядке, можешь выражать свои эмоции.
— А какие эмоции мне выражать?
— Не надо быть таким агрессивным, Джимми. Я понимаю, каково тебе.
— Ну, если вы и так понимаете, зачем спрашивать меня, — и так далее.
Отец Джимми сказал ему, что они, два мужика, должны двигаться дальше как могут. И они двигались. Всё двигались, двигались, наливали себе апельсиновый сок по утрам, клали тарелки в посудомоечную машину, если не забывали, и через несколько недель папино лицо уже не было зеленоватое и он снова начал играть в гольф.
Теперь, когда самое страшное закончилось, он вроде пришел в себя. Стал насвистывать во время бритья. Брился чаще. А через пристойное время к ним переехала Рамона. Жизнь заиграла совсем другими красками, в палитре появился бесконечный секс с визгами и хихиканьем, за закрытыми, но не звуконепроницаемыми дверями, а Джимми выкручивал музыку на максимум и старался не слушать. Можно было поставить им в комнату «жучок» и насладиться шоу по полной программе, но эта мысль вызывала у него стойкое отвращение. По правде говоря, он стеснялся. Однажды они с отцом неловко столкнулись на втором этаже — отец, на котором из одежды только полотенце на бедрах, уши торчат, на скулах румянец после эротических игрищ, и Джимми, красный от стыда, делающий вид, что ничего не замечает. Эти два одержимых гормонами кролика могли бы предаваться своим утехам в гараже, не тыкать Джимми носом во все это. Он был как человек-невидимка. Правда, больше ему никем быть и не хотелось.
Сколько же времени это продолжалось? Интересно, думает Снежный человек. Неужели они репетировали за загонами свиноидов, в костюмах биозащиты и герметичных масках? Да нет, вряд ли: отец был ботаник, но не мудак. Конечно, можно быть и тем, и другим: ботаническим мудаком или мудацким ботаником. Но отец (так кажется Снежному человеку) был слишком неуклюж и не умел врать, вряд ли он был способен на полноценный обман или предательство, мама бы заметила.
Впрочем, может, она и заметила. Может, потому и сбежала — может, отчасти поэтому. Не станешь хвататься за молоток — не говоря про электрическую отвертку и разводной ключ — и разносить чей-то компьютер, если не злишься.
Не то чтобы она не злилась вообще: просто ее злость переросла любую причину.
Чем больше Снежный человек думает, тем больше убеждается, что у отца с Рамоной ничего не было. Они дождались, когда мать Джимми рассыпалась кучкой пикселей, и тогда бросились друг другу в объятья. Иначе они бы не смотрели друга на друга так искренне и безвинно в «Бистро „У Эндрю“» в «ОрганИнк». Будь у них роман, они бы на людях вели себя сдержанно, по-деловому, избегали бы друг друга, быстро перепихивались в грязных закоулках, на конторском ковре, путаясь в отскочивших пуговицах и заклинивших «молниях», жевали бы друг другу уши на автостоянках. Они бы не утруждали себя этими стерильными обедами: отец изучает скатерть, Рамона разжижает сырую морковь. Не истекали бы слюной, глядя друг на друга поверх зелени и пирогов со свининой, используя маленького Джимми вместо живого щита.
Нет, Снежный человек не выносит им приговора. Он в курсе, как это бывает — как бывало. Он вырос, на его совести много ужасов пострашнее. Кто он такой, чтобы их осуждать?
(Он их осуждает.)
Рамона усаживала Джимми, таращилась своими огромными темными, искренними глазами с черной бахромой ресниц. Говорила, что знает, как ему тяжело, это для всех травма, ей тоже непросто, хотя, возможно, ему, ну, так не кажется, она знает, что не может заменить ему мать, но она надеется, они смогут стать друзьями? Конечно, почему нет, отвечал Джимми — не считая связи Рамоны с его отцом, Рамона ему нравилась, и ему хотелось ее порадовать.
Она старалась. Смеялась его шуткам, иногда не сразу — она ведь не человек слов, напоминал он себе, — а порой, когда отца не было дома, готовила в микроволновке ужин для них двоих, в основном лазанью и салат «Цезарь». Иногда они вместе смотрели DVD, она садилась рядом с ним на диване, сначала сделав попкорн и полив его заменителем масла, запускала в миску жирные пальцы, облизывала их во время страшных эпизодов, а Джимми старался не смотреть на ее грудь. Она спрашивала, не хочет ли он спросить ее о чем-нибудь, ну, ты понимаешь… О ней и его папе и что случилось с семьей. Он говорил, что не хочет.
По ночам он втайне тосковал по Убийце. А также — непризнанным уголком сознания — о настоящей, странной, неправильной, несчастной маме. Куда она уехала, какие опасности ей угрожают? Само собой, она в опасности. Ее будут искать, а на ее месте он бы не хотел, чтоб его нашли.
Но она сказала, что свяжется с ним, так почему до сих пор не связалась? Позже он получил от нее пару открыток — английские марки, потом аргентинские. Подписаны «Тетя Моника», но он знал, что открытки от мамы. Надеюсь, у тебя все хорошо, — больше ничего. Наверное, она знала, что прежде, чем открытки попадут к Джимми, их прочтут сотни ищеек, и была права, потому что вместе с открытками в доме появлялись люди из КорпБезКорпа, спрашивали, кто такая тетя Моника. Джимми говорил, что понятия не имеет. Он понимал: скорее всего, в тех странах, откуда приходили открытки, мамы нет, она ведь очень умная. Наверное, кого-то просила отправить открытки.
Что, не доверяла ему? Очевидно, нет. Он чувствовал, что разочаровал ее, подвел в чем-то важном. Так и не понял, что от него требуется. Если б ему выдался еще один шанс сделать ее счастливой.
— Я — не мое детство, — говорит Снежный человек вслух. Он эти ретроспективы ненавидит. Но не может их выключить, не может сменить тему, вырваться. Ему нужна внутренняя дисциплина или магическое слово, снова и снова его повторять, чтобы отключаться. Как же это называлось? Мантры. В начальной школе было. Религия Недели. Ладно, дети, теперь сидите тихо, как мышки. Джимми, тебя это тоже касается. Сегодня сделаем вид, будто мы в Индии, будем читать мантры. Весело, правда? Теперь давайте выберем слово, каждый свое, у каждого будет собственная мантра.
— Держись за слова, — говорит он сам себе. Странные слова, старые слова, редкие. Балдахин. Норна.[7] Прозорливость. Волынка. Сладострастный. Они исчезнут у него из головы и перестанут существовать, вообще, навсегда. Будто их и не было.
Коростель появился за несколько месяцев до исчезновения матери. Два таких события за один год. Какая связь? Никакой, не считая того, что мать с Коростелем поладили. Коростель был одним из немногих друзей Джимми, что нравились маме. Его друзей она в основном считала незрелыми, а подруг — пустоголовыми или неопрятными. Прямо не говорила, но догадаться нетрудно.
Но Коростель — Коростель был другим. Она говорила, что он взрослее — вообще-то куда взрослее большинства взрослых. С ним можно разговаривать объективно, и в этих разговорах все события и гипотезы доводились до логического завершения. Джимми не видел, чтоб они друг с другом вот так беседовали, но, видимо, беседы имели место, иначе она бы так не говорила. Он часто задумывался, когда же и как происходили эти взрослые логичные разговоры.
— Твой друг интеллектуально благороден, — говорила мать. — Он себя не обманывает. — А потом смотрела на Джимми — эти грустные глаза, этот взгляд, — мол, как же ты меня огорчаешь. Если б он только мог стать таким же — интеллектуально благородным. Еще один минус в тайном мамином табеле, что хранился в потайном кармане ее души, в табеле, по которому Джимми всегда еле справлялся. Джимми мог бы лучше успевать по интеллектуальному благородству, если б только постарался. И, блин, если бы понял, что вообще значит эта хрень.
— Я не буду ужинать, — снова говорил он. — Возьму что-нибудь перекусить. — Если ей охота огорченно пялиться, пускай пялится на кухонные часы. Он переделал их так, что малиновка говорила угу, а сова — кар. Пусть ее для разнообразия часы разочаруют.
Насчет благородства Коростеля, интеллектуального или еще какого, у Джимми имелись сомнения. Он все-таки знал про Коростеля чуть больше матери.
Когда мама исчезла, устроив представление с молотком, Коростель почти ничего не сказал. Кажется, его эта история не удивила и не шокировала. Он заметил только, что некоторым людям нужно меняться, а для этого куда-нибудь уехать. Сказал, что иногда человек часть твоей жизни долго-долго, а потом вдруг его больше нет. Что Джимми надо бы почитать стоиков. Совет Джимми раздосадовал: Коростель бывал порой чересчур назидателен и слегка злоупотреблял этим «надо бы». Но Джимми был благодарен ему за спокойствие и ненавязчивость.