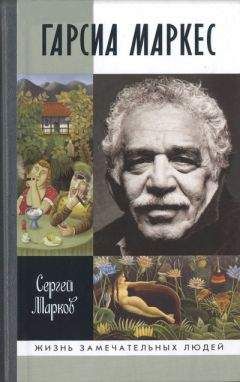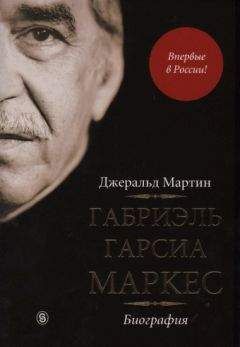Глазам предстало страшное зрелище. Залы были битком забиты самым разнообразным народом всех рас и вероисповеданий, люди расположились в душных коридорах и даже на лестницах, лежали вповалку на полу, вместе со своими детьми, животными и пожитками. Сообщение с городом прервалось, и прозрачный дворец из пластика стал походить на попавшую в бурю огромную космическую станцию. Я не мог отделаться от мысли, что красавица должна находиться где-то здесь, в затихшей людской гуще, и эта бредовая мысль давала мне силы ждать.
В обед мы полностью осознали свое положение потерпевших крушение. Перед дверями семи ресторанов, кафе и баров вытянулись бесконечные очереди, но не прошло и трех часов, как все они закрылись, потому что там не осталось ни еды, ни питья. Дети, а казалось, что тут собрались все, какие были на свете, дружно заплакали, а от толпы завоняло стадом. Пришла пора разгуляться инстинктам. Единственной едой, какую мне удалось добыть в этой людской свалке, были два последних стаканчика сливочного мороженого в лавочке для детей. Я ел мороженое у стойки, пока официанты собирали стулья и складывали их на столы, и смотрел на свое отражение в зеркале в глубине кафе: в руках — последний картонный стаканчик с последней картонной ложечкой, а в голове — мысли о красавице.
Самолет, который должен был вылететь в Нью-Йорк в одиннадцать утра, вылетел в восемь вечера. Когда я наконец вошел в самолет, пассажиры первого класса уже сидели в креслах, и стюардесса провела меня на мое место. У меня перехватило дух. В кресле рядом с моим, со спокойствием опытного путешественника, устраивалась моя красавица. «Напиши я об этом, никто не поверит», — подумалось мне. Я нерешительно пролепетал приветствие, но она его не заметила. Она устраивалась так, словно собиралась прожить в этом кресле долгие годы: раскладывала вещи в таком порядке, что ее место в самолете стало похожим на идеальный дом, где все под рукой. Пока она этим занималась, старший стюард, приветствуя пассажиров, обнес всех шампанским. Я взял бокал, собираясь предложить ей, но вовремя одумался. Оказывается, она хотела лишь стакан воды и попросила стюарда — сперва на недоступном французском, а потом на английском, едва ли более понятном ему, — чтобы ее ни в коем случае не будили до конца полета. В ее низком и мягком голосе проскальзывала восточная грусть.
Когда принесли воду, она раскрыла на коленях туалетный прибор, маленький кофр с медными наугольниками, как на бабушкиных баулах, и достала две позолоченные таблетки из коробочки, где было множество других разного цвета. Делала она все размеренно и аккуратно, словно все на свете было у нее предусмотрено заранее, с самого рождения. И наконец задвинула шторку иллюминатора, опустила спинку кресла до отказа, не снимая туфель, укрылась одеялом до пояса, надвинула на глаза полумаску для сна, повернулась в кресле на бок, спиною ко мне, и тотчас же заснула, и так проспала, ни разу не проснувшись, не вздохнув, не поменяв позы, все восемь часов и двенадцать минут, которые длился полет до Нью-Йорка.
Полет был трудным. Я всегда считал, что в природе нет ничего прекраснее красивой женщины, и потому не мог ни на миг избавиться от очарования, исходящего от сказочного существа, спавшего рядом со мной. Старший стюард исчез, едва мы оторвались от земли, вместо него появилась стюардесса и попыталась разбудить красавицу, чтобы вручить пакетик с туалетными принадлежностями и наушники — слушать музыку. Я повторил просьбу, с которой моя красавица обратилась к старшему стюарду, но стюардесса хотела во что бы то ни стало услышать от нее самой, что и ужинать она тоже не будет. Старшему стюарду пришлось повторить ее распоряжение, и в довершение он укорил меня за то, что красавица не повесила себе на шею табличку с просьбой не будить ее.
Я поужинал в одиночестве, проговорив про себя все, что сказал бы ей, если бы она не спала. Она спала так крепко, что в какой-то момент я забеспокоился. fie выпила ли она вместо таблеток для сна таблетки для смерти. Перед каждым глотком я поднимал бокал и произносил тост:
— За твое здоровье, красавица.
После ужина погасили свет и пустили фильм ни для кого, и мы оказались вдвоем в потемках мира. Самая страшная буря за все столетие осталась позади, ночь над Атлантикой стояла огромная и чистая, и самолет, казалось, застрял среди звезд. И тогда я на долгие часы погрузился в созерцание: я разглядывал ее всю, пядь за пядью, и единственным признаком жизни, который я мог уловить, были тени снов, пробегавшие по ее лбу, точно тени облаков по воде. Тончайшая цепочка на шее почти не была видна на золотистой коже, в ушах совершенной формы не было дырочек для сережек, розовые ногти свидетельствовали о прекрасном здоровье, а на левой руке виднелось гладкое кольцо. Поскольку ей нельзя было дать больше двадцати лет, я утешил себя мыслью, что кольцо скорее всего не обручальное, а от ничего не значащей помолвки. «И только знать: ты спишь со мною рядом, в забвении, ласкаемая взглядом, недостижимая для кротких рук моих», — в парах шампанского повторил я про себя сонет Херардо Диего. А потом опустил спинку своего кресла на уровень ее, и мы оказались лежащими ближе, чем в супружеской постели. Теплота ее дыхания была под стать ее голосу, и от кожи исходил теплый дух — то был, конечно же, аромат ее красоты. Просто невероятно: прошлой весной я прочитал прелестную повесть Ясунари Кавабаты о двух стариках буржуа из Киото, которые платили огромные деньги за то, чтобы провести ночь в созерцании самых юных красавиц города, обнаженных, усыплённых наркотиками: и, лежа рядом с ними, в той же постели, они умирали от любовных мук, но не могли разбудить или даже коснуться их, ибо суть наслаждения как раз состояла в том, чтобы созерцать их сон. В ту бессонную ночь, глядя на спящую красавицу, я не только умом понял утонченное наслаждение стариков, но и сам в полной мере испытал его.
«Кто бы мог подумать, — шептало мне подогретое шампанским самолюбие. — Я — как тот старик, на какие высоты взлетел».
Потом, наверное, я заснул, сморенный шампанским и беззвучными мелькающими кинокадрами, и, проспав несколько часов, проснулся с больной головой. Я встал и пошел в туалет. Позади, через два ряда от меня, безобразно расползлась в кресле старуха — владелица одиннадцати чемоданов, — точно труп, брошенный на поле битвы. На полу посреди прохода валялись ее очки с цепочкой из разноцветных звеньев, и я испытал короткое удовольствие от собственной подлости — не поднял их.
С облегчением избавившись от излишков шампанского, я вдруг увидел себя в зеркале таким гнусным и безобразным, что поразился, как разрушают любовные страдания. Неожиданно самолет резко пошел вниз, потом как мог выровнялся и поскакал вприпрыжку дальше. Засветился приказ всем вернуться на место. Я поспешил к своему креслу, мечтая о том, что посланные Богом воздушные вихри разбудят спящую красавицу и она укроется от страха в моих объятиях. В спешке я чуть было не наступил на очки голландки, что, наверное, доставило бы мне удовольствие. Однако вовремя сдержался, поднял очки и положил их ей на колени в приливе благодарности за то, что она не опередила меня и не выбрала место номер четыре.
Красавица продолжала спать непробудным сном. Когда самолет снова пошел ровно, я едва удержался от искушения под любым предлогом растормошить ее, ибо в этот последний час нашего полета меня не оставляло одно-единственное желание — увидеть ее проснувшейся, пусть даже рассерженной, ибо только так мог я вновь обрести свою свободу, а может быть, даже и молодость. Но я не решился. «Черт подери, — подумал я, испытывая к себе презрение. — Почему я не родился под знаком Тельца». Она проснулась сама в тот момент, когда зажглось извещение о посадке, и была так свежа и прекрасна, словно почивала в саду, среди роз. Только тогда я с сожалением заметил, что в самолете, просыпаясь, соседи не желают друг другу доброго утра, точь-в-точь как давно живущие вместе супруги. И она поступила так же. Сняла с глаз полумаску, открыла сияющие очи, подняла спинку кресла, отбросила в сторону плед, тряхнула густой гривой волос, которые расчесались под собственным весом, снова положила на колени туалетную шкатулку и чуть-чуть подкрасилась, наскоро, потратив на это занятие ровно столько времени, чтобы не успеть взглянуть на меня, пока дверь самолета не открыли. Тогда она надела рысий жакет, прошла почти надо мною, произнеся положенное извинение на чистом латиноамериканско-испанском, и, не простившись, даже не поблагодарив меня за то огромное усилие, которое я совершил во имя нашей счастливой ночи, ушла и исчезла до сегодняшнего дня в амазонских джунглях Нью-Йорка.
В девять утра, когда мы завтракали на террасе гаванской гостиницы «Абана Ривера», чудовищный удар морской волны, при ярко сияющем солнце, поднял в воздух несколько автомобилей, проезжавших в это время по набережной или стоявших у тротуара, а один, расплющив, впаял в каменную ограду. Подобный грандиозному взрыву динамита водяной шквал посеял панику на всех двадцати этажах здания и обратил в пыль все стекла нижнего этажа. Многочисленные туристы, находившиеся там, были отброшены воздушной волной вместе с мебелью, а некоторые ранены стеклянным градом. Видно, шторм был колоссальный, потому что между парапетом набережной и гостиницей пролегала широкая улица, а водяной вал перемахнул через нее, и у него еще осталось достаточно силы, чтобы раскрошить стеклянные окна и двери отеля.