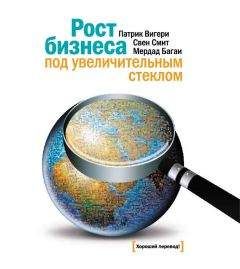— Мамо! — вскрикнула Ликера. — Харько ожил.
Потрясающий вопль, полный радости и накипевшей муки, вырвался из груди матери.
— Дытыно моя! — вскрикнула она и как безумная припала к груди своего сына.
Больной вздрогнул, затрепетал и с страшным усилием при помощи Ликеры подвелся и обнял свою неню.
— Мамо… бесталанная… роднесенькая, — заговорил он, задыхаясь от волнения и осыпая ее сморщенную шею лихорадочными поцелуями. — Ох, какое мне счастье! Не выдержит его грудь… Поневерялся там, побивался за вами… Ой, и какая же это была тоска!.. Смеялись над ней… хлопской дурью дразнили и мучили… Гляньте, каким я вернулся!
— Будь они прокляты, кровопийцы, харцызы! — заговорила было Устя, но сын остановил ее.
— Не проклинайте, мамо! Господь им судья! Там тоже есть и жмыкруты-кулаки, есть и бездольные да голодные… а на голоте везде ездят… и топчут ее под ноги везде. Такая уж, видно, доля моя: вырвали из родного поля былыну, пересадили на чужой грунт… ну, и усохла.
— Свете мой, орле мой! — заголосила старуха. — Того ли ждала я, на то ли посылала у пекло? Ты ж знаешь, старшина насел… и самому тебе хотелось надел выкупить… Ну, и запродали мы тебя и земельки не выкупили.
— Не мог я, мамо, не мог… в эти часы высылать вам и копейки! — волновался все больше и больше Харько, хватаясь часто рукой за грудь и за голову: упавший было на несколько минут жар, видимо, снова начинал разгораться и пепелить свою жертву. — Когда я потерял голос… и заболел… надорвавшись… мне перестали платить жалованье… стал я перебиваться перепиской — то пьес, то ролей… Все думал заработать копейку на поезд домой… да не хватало и на харчи… а ночевал я то у какого-либо товарища, то под сценой: голодные-то добрее сытых! Оттого и не писал вам, чтоб не бить вас ножом… а когда я уже свалился с ног, то хористы сложились и тот пан директор два карбованца доложил, и отправили меня, спасибо им, на родину… Только не побивайтесь, мамо, и ты, Ликеро, — обнял он их обеих и повис на руках, обессиленный… — Я выздоровею, бог даст… При вас у меня сразу прибыло силы… Вот встану, хату оправлю… нужно будет ее подважить и перекрыть… Я еще и тогда собирался… да оторвали… и окна нужно будет новые… и сволок. Вот я встану и грошей зароблю. Концерт дам… и сразу возьмем сотни три, четыре. Надел непременно выкуплю… А где, мамо, Рябко? Я его что-то не вижу…
— Подох весной, — тихо ответила Устя, едва удерживая рыдания.
— Жаль, жаль, такой славный был песик, меня как любил! То-то, смотрю, не виляет хвостом, а он бы визжал тут, — говорил все тяжелее и глуше Харько, с трудом и свистом захватывая воздух в судорожно ходившую грудь. — Мы, Ликеро, достанем другого щенка… только нужно выбирать с черным поднебеньем… Я поправлюсь скоро! Поздоровею… го-го, еще как! И не буду таким страшным… Ты, моя рыбонько, не бойся и не откидайся, что я теперь такой… я вылюднею… Вы нас, мамо, сейчас же сдружите… весилля справим и заживем тихо да лагидно… как у Христа за пазухой. Работать станем вместе… О, все закипит у нас!.. Ты прости, пробач, что я оторвался было от вас! Подманили легкие заработки… а вот они вышли какие!.. Теперь-то я вижу, что все счастье в тебе… да в своей земельке… Я бы и зараз встал!.. Да вот — голова еще кружится… гудит кругом… и на груди словно камень. Слышите — звон?.. Нет, нет, звон! О! Бов! Бов! К шлюбу… То звонят нам к венцу… Церковь полна народу… Только что же это? Для чего тушат свечи? Ой, темно!..
С ужасом уставились на Харька и мать, и невеста, а он уже терял сознание и потускневшими глазами искал кого-то в наплывавшей на него мгле.
В сенях послышались громкие голоса. Знахарка останавливала кого-то.
— Бога бойтесь, не тревожьте матери: ведь у нее сын умирает… на исходе душа…
— Начальству до того дела нет! — возражал мужской грубый голос. — Помирать — помирай, а недоимки и подати подавай; так бы всякий от платежа увернулся: взял бы да и умер. Нет, брат, мы и с мертвого сдерем — на то закон, на то приказ! — сотский шумно вошел в хату и ударил в землю ципком.
Старуха и дивчина были поглощены в эту минуту такой мучительной тревогой, что не повернулись даже к сотскому, а следили испуганным взглядом за лежавшим, почти бездыханным, больным.
— Что ж ты, баба? — заревел сотский. — Пан старшина требует тебя и твоего Харька в волость… и ведьму, говорит, хоть за косу тяни, и того кумедиянщика… хоть и мертвецки пьяного, а облей водой да и волоки! Что, коли ежели что, так он и сынку, и матери спишет спины… и в потылицу из хаты!
— Креста на тебе нет, что ли? — вскрикнула знахарка.
— Да что языком ляпать! — двинулся было сотский по направлению к полу, но, заметив мертвенное лицо Харька и припавших к нему двух женщин, смутился и стих. — Гм… коли божья воля… так оно, конечно… разве у меня души нет? Коли ежели господь… так уже пускай старшина как знает… — и он, перекрестившись, тихо вышел из хаты.
— Только что с нами балакал… при себе был, — обратилась к знахарке Устя, — а теперь вот опять… Ой, на бога, пани! Что с ним? Рятуйте!
Знахарка зорко взглянула на лежавшего пластом Харька и покачала сомнительно головой, но господыню все же утешила.
— Уж коли он до купели пришел в себя, так после купели и подавно. То он наговорился… натрудил грудь, ну, и духу не стало… изнемогся и заснул.
И Ликера и Устя взглянули на знахарку с такой теплой надеждой, что та от смущения опустила глаза.
Примирившись с положением хворого, все принялись хлопотать о купели. Ликера, таская из колодца в сени ведра с водой, заглядывала каждый раз в хату на Харька: он все неподвижно, спокойно лежал, словно охваченный благодетельным сном. Наконец ванна была готова и накрыта рядном, и все три женщины вошли в хату, чтобы перенести хворого в сени.
Знахарка подошла к больному и остановилась в нерешительности:
— Не знаю, паниматко, будить ли его, или пусть еще отдохнет?
— Лучше бы его не тревожить, — решила мать. Но больной неожиданно заметался, забился в постели и заговорил не своим голосом, в бреду:
— Бога ради… на милость, не штрафуйте! Послать нужно матери… с голоду пухнут — и она, и Ликера, моя зиронька… простила меня и по-прежнему… Для чего меня вырвали, пане, от них, на что разлучили? — и потом он зачастил что-то хрипло, захлебываясь кровавой пеной и судорожно царапая себе грудь.
В оцепенении все стояли у его постели и ожидали чего-то ужасного.
Хворый начал было словно стихать и вдруг заметался и завопил страшным, потрясающим душу голосом:
— Что же я буду петь?.. Чем буду петь? Голос сорван… разбит… духу нет… пусто здесь… Сами видели, как нес сундуки, хлынула у меня горлом кровь… А! Матери нужны деньги? Да, да, спасибо, что напомнили… Да, ей, бедной, неоткуда… Добре… я попробую!.. — и вдруг больной поднялся на ноги и запел:
Коло млина, коло броду
Два голуби пили воду,
Вони пили, буркотіли,
Ізнялися и полетіли!
Голос его, дребезжащий, едва слышный, выводил с передышками бесконечно грустный мотив этой трогательной песни, рисующей разлуку коханцев навеки. Как тонкая, перетлевшая нить, звуки рвались и тонули в мертвой тишине хаты, но в них трепетала догоравшая, исстрадавшаяся душа и захватывала сердце у Ликеры и у матери невыносимой болью…
Но вот на высокой ноте оборвался голос певца; несчастный схватился руками за грудь и, как сноп, упал на постель навзничь.
Знахарка бросилась к Харьку, прильнула к его груди, заглянула в остановившиеся зрачки глаз и промолвила строгим голосом:
— Преставился… упокой, господи, его душу!
Без стона, без рыданий, как подрезанный серпом колос, склонилась мать пред мертвым сыном и, покорная воле небесной, зашептала отходную молитву. Ликера вскрикнула не повторяющимся в жизни криком и упала пластом перед усопшим. Одна лишь знахарка спокойно закрыла ему глаза.
Догоравший на стекле последний луч заходившего солнца вспыхнул яркой искрой и сразу погас… и в хате стало вдруг мрачно и тихо, так тихо, что словно слышался еще последний звук жизни, улетавшей туда, где нет больше неправд и страданий…
Только что сгустились сумерки над затерявшимся в глухой балке селом; мокрый, лопастый снег закрывает белесоватою пеленой покосившиеся и потонувшие в грязных сугробах хатки. Стояли они беспомощно и угрюмо, как нежилые пустки, неотогретые приветливым огоньком очагов, хотя в воздухе и слышится гарь от навоза. Глухо и пустынно кругом: ни лая собаки, ни человеческого говора — словно все вымерли или уснули непробудным сном. Только в крайней хатке, почти вросшей в землю, сквозь залепленные снегом оконца тускло мелькают красноватые пятна. В ней за убогим столом сидят две женщины: одна молодая, с бледным, измученным лицом, с темными красивыми глазами, в которых застыло выражение какой-то безнадежной муки, а другая — старуха. Слабый свет от каганца, стоящего на карнизе печки, освещает только середину хаты и отбрасывает от этих двух женщин неуклюжие, расплывающиеся тени по стене и потолку; в углах же хаты стоит мрак. Тут же, возле молодой женщины, лежит на полу[5], на грубых подушках, прикрытый рядном четырехлетний ребенок; по разметанной позе, по пылающему личику, по тяжелому дыханию видно, что он лежит в тяжком забытьи.