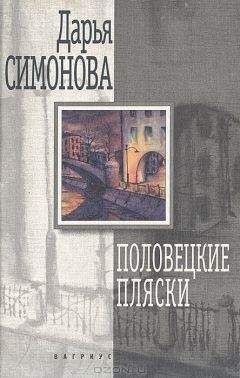Глава 3
Бесконечность Толика и водки
Толик и Город жили своей тайной совместной жизнью. Точнее, они заключили особую сделку, вроде той, что заключает обладатель уникального черепа, продавая его по факту смерти в докторские лапы. Город по непонятной прихоти открыл Толику свои укромные норки, где можно было схорониться в лихое время… В мокрое гриппозное межсезонье Толик всегда знал ходы к теплу и праздникам, бывало, что тихим и домашним, а бывало, что и чрезмерностью дозы укладывающим на лопатки. Раз на раз не приходится — в сущности Толик и Город жили в унисон своими сногсшибательными перепадами давлений и температур, и, наверное, окажись этот взбалмошный городской пассионарий столь же долгожительным, что и текущая цивилизация, — по его всевозможным кардиограммам или томографиям можно было бы предсказать последний день этих «Помпей»… Случись беда — перво-наперво Лиза звала Анатолия, вынимая его из любых снов, работ, халтур или объятий. Лиза знала, на что идет, и не ждала эффекта «03» или «911» — в сущности, мирилась и с тем, что вместо доброго слова иногда могла получить недоброе и короткое. Не в том была суть. Она была сыта странной и необъяснимой уверенностью, что этот ехидный ежикоподобный мужчинка — зимой и летом в одной и той же линялой ветровке и в замшевых ботинках, — сам того не подозревая или подозревая, связан с местным Хранителем, полубожеством, полуангелом, чьи аллегорические лики на фасадах с монотонным всепрощением взирали на мир. То есть без излишних романтик Толик казался проводником — колодцем в небо: если ему нашепчешь, Там услышат. Но это были всего лишь издержки интуиции и воображения Елизаветы, пытавшейся связать воедино крайности Толичкиной натуры, в духе которого было сквернословить и приезжать в гавань на велосипеде, чтобы смотреть на плавный ход отплытия неизвестных кораблей. И хотя Толик руками и ногами открещивался от сентиментальности и умело маскировался внешней прозаичностью — он оставался ларчиком неоткрытым, и Город прощал ему все, оставляя в роли непотопляемой щепки. Странно, а может быть, и нет, если учесть, что иерархия небес не изучена, и кто знает — возможно, Ангел — здешний наместник — это и есть самый что ни на есть Босс. Тогда Толику повезло с покровителем…
Толик, впрочем, и думать не думал об этом. Сейчас он невнимательно слушал, ибо не любил затянувшихся преамбул, но Юрьевна сочла многословие необходимым. Толик много курил, толстел, потом запоем работал и худел. Потом опять худел, ссыхался — но уже от водки. «Выпьем?» — «Да, по чуть…» — «Ну, рассказывай!» — «Рассказываю». Толик потел, но слушал. Не без раздражения, как всегда. Но Лиза не обращала на это никакого внимания: только добро Толик делал тайно и стыдливо, а о своих кознях кричал во всю визгливую глотку.
— Что я скажу тебе на это, мин херц… — ерничал Толик. — Доигралась, козочка, простота хуже воровства. А впрочем, сифилис — это даже оригинально. Это в духе времени — махровый декаданс. Бледный лик, впалые щеки, кокаин, черные губы, мундштуки, набитые черт знает чем… И непременное торжество порока. Ты понимаешь, Лизка, во всем есть свой вкус. Вот у меня орган вкуса постепенно атрофируется. Я даже не педераст, хотя многие меня за него держат. Я до отвращения нормальный законопослушный пенек. Мне нравятся женщины моего возраста и моего роста. Ни одна нимфетка меня до сей поры не возбуждала. И даже бабушек мне иметь не хочется. Ни бабушек, ни ослов, ни догов. Никакого фетишизма. В групповухе, единственной за всю жизнь, меня потянуло блевать. Эти спутанные тела… как один потный спрут, а на безобразное у меня не встает… Я ужасно немодный. Моя любимая женщина уехала в Китай, впрочем, это уже лишнее и опять-таки слишком обычное. К тому же я еще и мучаюсь из-за любви, как последний гимназист. Встаю с утра и начинаю мучиться. Бреюсь и мучаюсь. Намываю пузо и мучаюсь. Вот такие у меня развлечения. Традиционные сопли стареющего интеллигента. Где же кофе… да не этот, молотый…
— Толь, я хотела…
— И чего же ты хотела? Меня ты, случайно, не хотела?
Елизавета Юрьевна держала наготове слезный долговой спич с торжественным обещанием вернуть не позднее чем через месяц, но слова вдруг рассыпались, рюмка опустела и бронхитная глотка прохрипела:
— Денег займешь? Ну… сколько сможешь…
— Все сделаю для тебя, даже город этот взорву с потрохами, но налички у меня нет. Да не пугайся, тетеря, двести всяко займу, вылечим Риткин организм. Скажи этой пипетке, чтоб не пила… да ей бесполезно… саксофонистка хренова…
— Это во время лечения нельзя пить и потом еще месяц. А до того, наоборот, медициной поощряется. Алкоголь тормозит размножение бацилл, ей так сказали…
— Ха-ха! — развеселился Толик. — Мне бы так заболеть. Прелестно! Позови Ритку скорей, сейчас как ударим по бациллам…
— Нет уж. Не до этого. Какой-то пир во время чумы получается…
— Ты дура. Больше ничего не скажу… — и тут Толик приготовился читать установочную лекцию о жизни. Это был его конек. Его огромный, прорыжевший от табака ноготь указательного пальца взлетал вверх, и лилась высшая философия мироздания. Гитлер, увидя это, заплакал бы от зависти к такому ораторскому дару. Из-за этой привычки Толика перестали приглашать на праздники — в неожиданный переломный момент вечера Анатолий целиком заполнял акустическое пространство. Впрочем, на празднике спастись можно, а вот если как сейчас — одни на один с вдохновенным оратором… А Рита уже, наверное, ждет у метро и давится слезами…
И Елизавета, не мешкая боле, рассыпалась в торопливых благодарностях, чмокнула Толика в затылок и пообещала на днях звякнуть. Толик, лишенный удобного случая растечься мыслию по древу, сосредоточенно ковырял спичкой в ухе. В зеркале отражалась какая-то его тайная думка. Елизавета Юрьевна не стала ее разгадывать. У метро ее ждала Рита.
Глава 4
Белые начинают, но пока не выигрывают…
Маргарита притаптывала ботинками от холодка, отчаяния, нетерпения, а рядом мямлил вялый дождь, еще даже не дождь, а просто предтеча его, предупреждение о грядущем межсезонье. Как мазня перед месячными… Теперь все образы сводились к тому самому больному месту, символу жизни и плодородия, черт возьми. Еще не прошло вчерашнее резкое обмякание тела, когда сообщили диагноз и внутренняя теплая гиря поползла вниз от груди к ступням. С детства знакомый спокойный ужас удовлетворения — «свершилось самое страшное». Врачиха попалась — метр на метр, злая, в мелких кудряшках, делавших ее еще более шарообразной. Заученным до автоматизма свирепым рывком она ловко впихнула в Маргаритино нутро свою вогнутую железку, при этом покрикивая: «Ну-ка, расслабилась! С мужиками-то спать поди не больно…» Поковырялась пальцем, помяла живот. Маргарита же злорадно представляла, как будет рваться эта жирная плоть, если выпустить в нее пару автоматных очередей. На гинекологическое кресло она взгромоздилась впервые. До сей поры Бог миловал…
После варварской процедуры врачиха брезгливо сняла перчатки, проквакала «Ждите!» и зашелестела бумажками. Принялась за свое досье. То бишь за Сонину медицинскую карту. Своей у Маргариты не было и не могло быть — она шесть лет жила без прописки.
По ходу дела в кабинет вбежала какая-то визгливая щебетунья, отвлекшая мрачную докторицу от записей вопросами о внучонке. Чудовище вдруг расслабилось, обмякло, да так, что халатная пуговица на вершине живота вот-вот готова была отлететь от напора рыхлых телес. Лицо мучительницы осветила осторожная, непривычная для него улыбка, и Рита со злой обидой подумала вдруг, что о других детях, и в частности о ее, когда-либо могущем родиться ребенке, эта старая сука не говорила бы с такой нежностью. Что по здравомыслию представлялось естественным и логичным, однако у издергавшейся Риты опять сжались в бессильной ярости кулаки. Она жгуче сожалела, что не может выпустить пар, поскандалить, разбить докторше в кровь лицо и победно покинуть этот гадюшник навсегда — иначе Соне дорога сюда будет закрыта. Возможно, что это было бы к лучшему для Сони. Но о сем уговора не было.
А нахохлившаяся Соня в коридоре пристально изучала плакат о трихомонозе. Неплотная дверь кабинета беспрестанно ходила под ветром и скрипела, сидевшие в ожидании приема унылые женщины-коровы заглядывали в щелку, будто стараясь предвосхитить свои «некомильфо». Соню ничто не смущало и не трогало, она смотрелась как поп-дива, случайно попавшая в обычный автобус: легкая смесь презрения и насмешки, приправленная готовностью в любой момент выпустить когти. Маргарита же ерзала в ожидании анализов, а зрачки ее бездумно следили за хаотичной уверенностью движений добротной авторучки в пальцах у врачихи. Внезапно в кабинете возникла бледная сиплая особа, а за ней две явные практикантки-лаборантки. Их суетливое аукание медленно приближалось из глубин коридора, но паническим чутьем Марго поняла, что это по ее душу. Хотя до последнего момента она верила в принцип услышанной пули, которая всегда пролетает мимо…