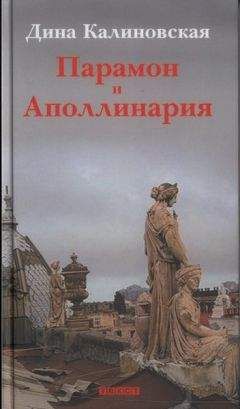— А может быть, вы, гражданин Хворостенко, скажете, где сейчас находится и под какой фамилией ваш знакомый бандит?
Хворостенко улыбнулся, и ненависть хлынула в сердце Хачика раньше, чем он услышал ответ.
— Я прячу его у себя под кроватью.
Теперь, когда Мнацаканян поверил, он даже не нуждался в официальных свидетелях для розыска и осуждения того человека. Теперь его врагом стал сам Хворостенко, присутствовавший при том, возможно, поощрявший то.
Впрочем, он объявил мадам Ивановой, что намерен разыскать и предать Народному суду героя ею же рассказанной страшной истории, и пригласил мадам в свидетели. Трясущаяся голова интеллигентной старушки прямо-таки задребезжала от ужаса, она чуть не скончалась у него на глазах. Пришлось успокоить, сказать, что пошутил. Стоило ли в таком случае тревожить Клаву Сероштаненко? Лет так десять-восемь тому, решил Хачик, еще куда ни шло. Хоть и десять лет назад от комсомольской повадки Клавы мало что оставалось, одна привычка отважно вскидывать голову, насколько позволяла согбенность… Следовало полагаться на самого себя.
Хачик повернул еще за угол, обошел весь квартал и вторично приблизился к седьмому номеру, по-прежнему не зная — зачем. За чем-то решающим или с чем-то решительным шел он, но остановился против Хворостенко, совершенно не представляя, что предпримет или хотя бы скажет тому.
Арка смыкалась над ними, из нее несло сыростью двора, как из колодца.
— Пора?.. — тихо полувопросительно произнес Хачик.
Тут сквозняком из мусорного бака во дворе вынесло и поволокло по всему длинному проезду сырой газетный лист и прилепило к ногам Хачика. Хачик отступил в сторону, чтобы избавиться от газеты, и очутился прямо перед тем, страшной памяти, углом. Он не знал, что это за «пора», дурацкое слово выскочило нечаянно и ни о чем не говорило. Так и не придумав, что сказать поопределеннее, он молча уставился на послевоенную желтую штукатурку.
Она кое-где пообтерлась до белой грунтовки, кое-где исцарапалась до серого цемента.
«А кое-где ведь были, наверно, пятна от крови, — подумал Хачик. — Все можно замазать на этом свете!..»
Он стоял строго и почтительно, как перед мемориалом, и на мгновенье-другое забыл о Хворостенко. Он вытянул шею, сосредоточенно и печально было его лицо. Он неосознанно искал на стене пусть тонкую, как волос, незакрашенную или проступившую из-под желтого рыжиночку крови, пока, скосившись, не увидел, что серо-коричневая голова повернута к нему с тяжелым вниманием.
«Ну-ка, ну-ка! — подумал Хачик и стал разглядывать облупленную стенку нарочито близко и подробно, как изучал бы ее присланный по заданию эксперт, сантиметр за сантиметром. — Ай, кажется, теперь я знаю, что надо!..»
Раз-другой отколупнул якобы подозрительную пупырку извести, более крупный кусочек обстоятельно заложил в кошелек. Как он жалел, что в этот момент с ним не оказалось какого-нибудь инструмента, приличествующего профессии эксперта, хотя бы увеличительного стекла — для большей весомости сцены!
Он сказал опять, как бы отвечая внутреннему вопросу, как бы полупринимая решение, но и советуясь одновременно с общественностью в лице присутствующего Хворостенко и для того повернувшись к нему лицом и взглядом:
— Назрело… Пора, а?
И степенно, начальственно отошел, не нуждаясь в ответе.
Он был ужасно доволен — артист! А главное — теперь у него появилась идея! А то, что в серо-коричневой скомканной фигуре, с где-то когда-то оторванной ногой, в смятых пыльными морщинами глазах, в позе Хворостенко, в его молчании было пудовое выражение абсолютной и каждодневной и ежечасной правости во всем без исключения, — что ж, хорошо, тем лучше!
Итак, он собственноручно изготовит и собственноручно поставит на том самом углу мемориальную доску в память невинно погибшей здесь неизвестной.
Приготовления стоили и смекалки и нервов. Непросто оказалось уловить момент и незаметно от жены вынуть из старого буфета дубовую полку, она была заставлена банками для варенья и домашнего консервирования, теперь пустые банки стояли вторым этажом на банках полных, и нормально стояли. А повисший над головой вопрос жены: «Где полка?» — до бешенства возмущал мелкостью, и он на него не отвечал. Ведро, необходимое для замеса, валялось в сарае. Алебастр он взял возле домоуправления прямо в государственной упаковке, крафтовом мешке, тут просто повезло — кто-то оставил, кто-то пусть жалеет. Мастерок он честно купил в магазине инструментов за семьдесят шесть копеек. Без мастерка намеченное представлялось почему-то не миссией, а шалостью, почти хулиганством.
И последнее, надо было тайно от жены где-то устроиться с вырезыванием букв на доске, и он придумал — в уборной. Он пожаловался на заминку в здоровье, попросил на ужин распаренного чернослива, съел его у нее на глазах, уверенный, что вреда не будет, но зато и расспросов не будет. А это было важнее всего, жена умела любой высокий помысел одним словом превратить в глупость.
Наутро он с полным правом закрылся на крючок, уселся с доской на коленях, и было уютно работать при сонном свете экономной лампочки, под тонкое пение труб и чистой весенней капели в бачке.
Сухое старое дерево резалось послушно, коротенькие щепочки отскакивали весело от перочинного ножа и острой отвертки, и было весьма уважаемо к себе ни о чем не думать, кроме дела.
Он резал глубоко, неторопливо, по заранее начертанным буквам и вырезал уже «НЕИЗВЕСТНО…» Хотел резать «Й» — и не стал.
«НЕИЗВЕСТНОЙ СТАРУХЕ» — было задумано им вначале. И надпись казалась удачной — сухо, без сантиментов. За словами вставала не одна полумертвая от старости еврейка, а тысячи не выдержавших войну, оставленных сыновьями старух. Он видел их потухающие от долгого ожидания глаза, их не согретые в последний час руки.
А тут ему показалась смешной эта надпись — название оперетты, не больше. Пройдут люди — рассмеются, подумают — шутка. «НЕИЗВЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЕ» — только так и оставалось написать. Но такая надпись ничего не говорила бы о хрупкости убитой, равной хрупкости и незащищенности ребенка. Скорее следовало написать «НЕИЗВЕСТНОМУ РЕБЕНКУ», эта надпись взяла бы за сердце каждого. Такой надписью он погрешил бы против достоверности, но не погрешил бы против сути. В конце концов, на месте старушки мог оказаться младенец… Да, были голые мокрые деревья, был холодный ветер с моря и толпа, гонимая в гетто. И была девочка, сама почти дитя, с грудным ребенком на руках, которого ни перепеленать, ни покормить она не могла, потому что гнали без остановок. И был Хворостенко возле седьмого номера, и была жена его, и тот человек. Он силой взял из рук юной матери дитя… Мороз прошел по спине Хачика, и он стал вырезать на доске: «НЕИЗВЕСТНОМУ».
Он устал. Спрятал доску за жестяную лохань, висевшую на стене, смел веничком в совок стружки, спустил сор в канализацию и вышел, не оставив никаких следов. Жена возилась на кухне, он пошел прогуляться.
Возле седьмого номера никого не было, Хачик, потирая руки, прищурился на ту часть желтой стены, куда ночью будет прилеплена его гражданская пощечина. А пообедав, немного передохнув и попив чаю, он опять взялся за нож.
Он слышал, как пришла с работы соседка, потом сосед. Его не беспокоили. Суета цвела в другом конце коридора, где кухня. А здесь было тихо, как под землей. Здесь только было слышно, как бродят соки большого дома. Тихие звоны и стоны гуляли по трубам, иногда жестко вздыхала повернутая лоном к стене жестяная лохань. И летели в сторону стружечки, дело подвигалось к точке. И предстояла ночь и ночная, прямо-таки партизанская работа.
— Пойду-ка я подышать свежим воздухом, — заявил Хачик уже расположившейся на постели жене в двенадцатом часу вечера.
На улице никого не было. Даже вахтенный возле парадных дверей мореходной школы не стоял, как ему полагалось, снаружи, а был где-то внутри, видимо, учил уроки по судовождению.
Хачик припрятал доску за узорными воротами седьмого номера, затем из колонки во дворе набрал воды в ведро с алебастром, заболтал, смачно ворочая мастерком, негустую кашу, и через минуту он уже придавливал доску к тому месту стены, где когда-то она обагрилась.
Прошла в обнимку неторопливая парочка, пробежала на каблучках, трусливо поджимая плечи, одинокая девочка, проехала милицейская ночная машина.
«Пусть себе ходят, пусть себе ездят, пусть освещают фарами!» — мысленно ворчал на обстоятельства Хачик. Главное уже было позади. Он спиной прижимал доску, ждал, пока алебастр схватится, и был действительно похож на человека, вышедшего перед сном подышать у ворот.
Из-за спины пахло новостройкой или, по крайней мере, капитальным ремонтом, было спокойно и праведно на душе. Хачик не думал сейчас ни о Хворостенко, ни о гонимых по улице евреях. Он сделал дело и был доволен, что оно удалось.