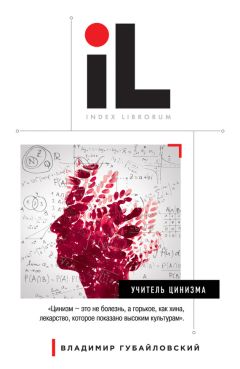Я горячился:
– Дима, но ведь это невозможно! Здесь важна непрерывность вывода. Нельзя же, в самом деле, строить сотый этаж небоскреба, пока других девяноста девяти просто нет.
Аполоныч совершенно спокойно отвечал:
– Видишь ли, меня не очень интересуют частности. Для меня куда важнее поймать тон, а здесь он в каждой фразе, чуть ли не в каждом символе.
Меня это коробило. И я со своим собеседником не слишком-то церемонился:
– Ну хорошо, в математике ты ни черта не смыслишь. Это понятно. Но как ты можешь использовать слова, смысла которых не понимаешь, а ведь они имеют строгое значение?
– Друг мой меньший, ты не прав. Наверно, я не докажу какую-то частность. Забуду что-нибудь. Ну так и бог с ней. Я ведь ловлю тембр мысли. Он-то куда важнее. А термины помогают мне расширять язык, даже если я их использую не вполне канонически. У меня они обрастают новым смыслом. Истина и выводимость – не одно и то же. Разве ты не знаешь этого? Истину можно увидеть, и перепрыгнув через длинные цепочки доказательств. Ты бы, что ли, Гёделя посмотрел, раз уж ты такой логик. А то как-то неловко.
Когда Дима говорил о своей жизни, это почти всегда было иллюстрацией неких высоких абстракций. Но жизнь-то была настоящая. Так, ночь за ночью, я узнал печальную историю этого человека.
– На втором курсе физфака я практически построил пространство идей. Но заболел, попал в больницу, и там его разрушили лекарствами. Потом, сколько ни пытался, такой стройности и чистоты я уже не достигал. Дальше учиться не смог. Дважды уходил в академотпуск, но все равно пришлось бросить. Мне было уже девятнадцать, но повезло. Врач – подруга моей матери – добилась, чтобы мне оформили пенсию как инвалиду детства, а это можно только до восемнадцати. Мать знала, что это меня спасет. Пенсию-то дали. Хотя ты понимаешь, что такое 50 рублей. Это ведь нищета. Ни на что не хватает. Разве заплатить за квартиру. Ну на еду кое-какую, одежду обычно дарят мои университетские друзья. Евтих или Дьявол Оранжевых Вод. Еще кое-кто. Только они последнее время куда-то все подевались. Но вот тебя встретил – университет не теряет меня из виду. Иногда я физически чувствую, как распадается сознание. Оно взрывается, как взрывается хрусталь. Луч падает на соединение граней, и этого минимального давления хватает, чтобы расколоть крепчайший сосуд. Но еще многое осталось. Что-то можно сделать. Не знаю только, успею ли. Раньше я попадал в больницу раз в два года, а теперь каждое лето на три-четыре месяца. Тяжелее всего в мае. Начинается бред. Иногда причудливый, с галлюцинациями. Когда приходит бред – все реально. Может, так и есть. Может, бред – тоже действительность, просто нормальная психика к ней невосприимчива. Ведь никто не знает, что он видит на самом деле, если он это видит один. Всегда нужен другой для сверки и контроля. Вот, например, свечение над головой. Я помню женщину, над которой стоял абсолютно черный нимб. Она была потрясающе красива. Я называю это отрицательной красотой. В ней сконцентрировалась огромная энергия распада. Она была по ту сторону смерти. Когда-то я читал рассказ о толедской инквизиции. Монах увидел на улице женщину невероятной красоты и закричал: «Это ведьма! Ведьма!» Ее схватили и сожгли. Я уверен, что она и была ведьмой, хоть, может, и сама не знала. Бывает красота святости, она другая – тонкая, светящаяся, почти прозрачная, сквозь нее видно небо, но и она страшна для человека. Провалишься и не заметишь, как потерял и тело и душу. Такой красоте место – в монастыре, ее нужно прятать. Всех своих родных я потерял за один год. Сначала умерла мать. Она была врачом. Хорошим врачом. А хороший врач всегда принимает в себя энергию распада, и в нем копится осадок чужого Танатоса. Когда прикасаешься к мертвому или умирающему, на тебе оседает трупный воск. Его нельзя стереть. Он навсегда. Я до сих пор несу на губах отпечаток материнского лба. Я ее поцеловал в гробу. Она умерла от рака. Она умирала дома. Умирала долго и тяжело. Я пытался ее спасти. Аутотренингом. Гипнозом. Голоданием. Кажется, она начала выздоравливать. Но тут явился отец, он уже жил с другой женщиной. В него, как кол, был забит порок. Он смердел распадом. Он вернулся и своей грубостью, тупостью убил маму, влил в нее последнюю каплю яда. Я знаю, она была святой. Она всю жизнь спасала людей, душой к ним прикасалась. Это так же опасно, как отсасывать дифтеритную пленку. Говорят, доброе слово лечит, а у нас врачи бездушные. Но разве можно упрекать человека, что он не хватает руками раскаленную сковородку, что он руку отдергивает? Нельзя же не обжечься. Так и врачи многие за бумагами, за грубостью просто душу свою прячут. И не сознательно, а почти инстинктивно защищаются от смертельного осадка. А если врач утоляет боль, душой прикасаясь, его ведет милосердие. Ну мама и нахваталась Танатоса, как дифтеритной пленки, и заболела, и отец ее добил. Но он ее пережил всего на полгода. Умер от инфаркта. Наверно, с перепоя. Он через всю жизнь тащил грех прелюбодеяния. И был наказан. Он был двоедушен, расщеплен. Когда он умер, мне было двадцать. Я торжествовал. Как он был безобразен в гробу! Вся его внутренняя гниль вдруг проступила наружу. И все увидели, что он начал разлагаться задолго до смерти. А еще через три месяца умер мой брат. Умер совершенно классически – подавился на поминках. Ему вроде бы стало плохо, его вывели на воздух подышать, а когда вернулись – он был уже холодный. Я жил один. То здесь, то в общежитии универа. Там было легче. И хлеб в столовой бесплатно, и вообще кто-нибудь обязательно покормит. Я работал натурщиком. Это тяжелая работа. Нужно стоять без движения много часов. А художники – народ цепкий. Ухватятся – и всю душу вынут, прямо выцедят по ниточке, все сокровенное, самое-самое. Был и смешной случай, когда я впервые позировал. Стою в одной повязке набедренной. А в мастерской почти все девчонки. Серьезные такие вроде. И вдруг вижу, они мне подмигивают. Да этак весело. Поглядывают и глазками стреляют. Ну я же человек живой, хоть и голый, тоже им подмигиваю. Только вот они как-то непонятно реагируют. Переглядываются. Но подмигивать-то продолжают. Я аж потом покрылся. Ничего понять не могу. Ну перемигивались мы так целый час. Перерыв. Я иду к мастеру и говорю: что это они мне все моргают? Понравился, что ли? А он как заржет: «Дурак, – говорит, – это они размер прикидывают: прищурят глаз, карандаш прикладывают и меряют тебя». Я был разочарован. Но потом привык – подмигивают, но ясно, что не мне. Потом и позировать не смог – сил уже не хватало. В больницу все чаще попадал. А потом меня взяли прямо на университетской проходной. Спросили пропуск, а я растерялся и побежал. Может, и ушел бы, да лопнул шнурок на ботинке. Я споткнулся, упал, и меня повязали. Отвели в отделение. Ну а там санитаров вызвали. И отвезли меня на 8-го Марта. Теперь я в универ боюсь ходить. Всех почти потерял, ко мне сюда совсем мало кто приезжает. А люди, особенно новые, мне очень нужны. И тут я тебя встретил в автобусе – студента университета, да еще и математика. Как же мне повезло!
– Ну что ты, Дима, мне ведь интересно с тобой. Иначе я бы не пришел.
Кажется, он пропустил эту реплику мимо ушей. Он как-то слишком сосредоточенно разливал чай. Вероятно, даже одно только предположение, что с ним может быть неинтересно, Аполоныча глубоко оскорбило. Он вообще считал, что своим общением исключительно щедро одаривает ближних, и требовал от них соответствующих воздаяний. Если я делюсь с тобой своим миром идей, ты должен меня боготворить.
Я оценивал эти дары довольно скептически. Но все равно в гости к Диме приходил.
– Разговоры перед сном. № 3 —
19 …На этот раз в комнате четверо. Штор на окне нет, и темноту периодически пронизывают автомобильные фары. Свет от них скользит по стене.
– Я говорю Шурику, ну зачем тебе непременно к Арнольду в ученики, мало ли на дифурах приличных людей. Нет, он уперся рогом и ломит. Арнольд его брать не хочет, дает ему задачки, и задачки те еще, я посмотрел – в глазах потемнело. Шурик сидит сутками, решает. Потом опять к Арнольду идет. А результат все тот же – не возьмет он Шурика. Мордой, наверно, не вышел.
– А я Шурика понимаю, если он Арнольда уломает, это – круто. Можно многого добиться.
– Да ничего он не добьется, что за привычка лбом стены прошибать! Двигаться надо не по прямой, а по геодезической, тогда быстрее всего получается. Допустим, возьмет его Арнольд на диплом, ну и что? Какого ума надо быть человеком, чтобы Арнольд тебя потом еще и в аспирантуру к себе взял? А Шурик, да простит он меня, многогрешного, не того полета птица. Пятерочки по анализу – это вам, извините, никак не КАМ [2].
– Знаете, а ведь Арнольд напридумывал много всяких смешных вещей и кроме математики. Вот, например, вы знаете принцип Арнольда?
– А в ответ тишина.
– Как этот принцип точно формулируется, я не вспомню, но суть такая: если какое-либо понятие или открытие имеет персональное имя, то это – не имя первооткрывателя. Короче, если Колумб откроет Америку, то ее никогда Колумбией не назовут.